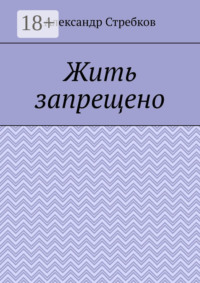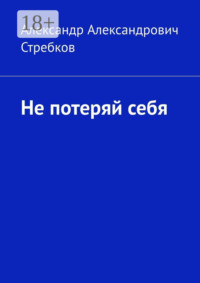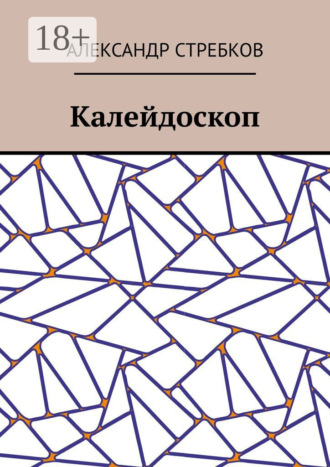
Полная версия
Калейдоскоп
первыми предадут свой народ, к которому они постоянно обращались и врали ему на каждом шагу, и о котором они, своей лужёной глоткой целых семьдесят лет, произносили льстивые речи, обещая им райскую жизнь, а на
деле уничтожая их. А вот в «Жизнь – жестянке» все мои герои романа взяты с прототипов реальных «пацанов». Мои персонажи, многие из которых, каза- лось бы, по всем параметрам личности отрицательные, и выглядят такими на страницах моих произведений, но их прототипы при этом оставались
людьми, хотя и водку пили. Их я знал лично, с ними, как говорят, можно было бы и в разведку идти, а с многими я был лично не только знаком, но и имел дружеские отношения. Многие пили, но тому и причина была: безнадёга в
этой стране, личные не состоявшиеся в жизни свершения, и прочее, прочее. Там вымысел отсутствует напрочь и изложено в основном в сатирическом,
ироническом, а периодами и грустном плане, как на самом деле всё это и вы- глядит в жизни.
Роман «Не потеряй себя» – автобиографический. Коротких в моей жизни
четырёх лет юности, но в памяти – это почему-то отражается и запечатлелось, как будто бы я этот отрезок жизни прожил больше столетия. Каждый прожи- тый день, каждое событие – это целая жизнь, и рассказаны они далеко не все. Вообще-то, изначально, этот роман в черновом варианте назывался
иначе – «Когда отцвели каштаны», так называется одна из заключительных глав романа, но в последний момент, я вдруг осознал, что главная мысль в этом произведении другая: та обстановка и реалистичность окружающего мира на то время, как и личность главного героя произведения, а вовсе не
Польша… и не Марыся… Хотя её диалог в романе и её эмоциональные выска- зывания на политические темы взяты с реальности и не придуманы мною.
Есть вещи, которые придумать просто маловероятно, а то и невозможно. Од- нажды услышав, такие вещи запоминаются на всю жизнь.
Впрочем, в авторском комментарии вряд ли роман нуждается, его я давно выложил в интернет, и пусть об этом лучше скажет само повествование и
сами читатели… Если ещё – да в наше-то время, – кого-то это, хотя бы малость, да заинтересует. В том-то и состоит изюминка этого произведения, что жизнь не переделать, а там, на страницах романа, изложена хроника. Но я всё-таки позволю себе повториться, прочтя заключительные строки романа, и если ис- ходить с иной точки зрения, то этот роман – он не окончен, беря во внимание сколько ещё имеется черновиков, а мыслей: так тех вообще, – в бесконеч- ность уходят. Есть вещи, о которых лучше умолчать. Растаивают мысли, в дымке, вдали, куда-то за горизонт уползая – забвенья… И завершить этот ро- ман, вряд ли возможно, разве только, если сама смерть поставит свою по-
следнюю точку…
Как только я плотно и кропотливо засел за творчество художественной
прозы, создавая свои романы уже в чистовики, окружающий мир для меня разделился на две половины. Не было у меня никакого самомнения, и в са- мом начале я даже не намерен был афишировать свои произведения и кому- то их там дарить. Писал для себя и для своих потомков. А вот реальность са- мого бытия, как бы сбивает с толку, особенно на момент времени, когда надолго погружаешься в события, которые описываешь, и они создают иллю- зию параллельно твоей жизни – новую реальность. И стоит на какое-то время покинуть их – своих героев и персонажей и не посвящать себя работе над
произведением, тебя начинает туда уже тянуть, как алкоголика к рюмке. В та- кие минуты внутри меня начинает создаваться впечатление и чувство, будто- то я сейчас в гости к ним пожалую. Потому у меня и возникла мысль и жела- ние, услышать хотя бы один отзыв при жизни. Прочтите не торопясь послед- ние заключительные полторы страницы романа, а после уже сделаете, лич- ный для себя, вывод…
«…Спустя две недели, Костя, теперь уже одетый в гражданскую одежду, не как в прошлый раз – в военное обмундирование, но всё с тем же, в одной руке импортным чемоданом, в другой с гитарой, направлялся вдоль перрона, чтобы сесть на электропоезд и уехать уже навсегда, из когда-то любимого го- рода юности. Кроме матери – ему, по сути, некуда было ехать. Последними
соками пока не истекая, но и преклонить на время голову, потребность была.
Предстояло прежде всего одуматься, попытаться найти самого себя и ту тро- пинку по болотистой местности, по которой брёл уже по колено в трясине. Предстояло выбраться на твёрдую почву и начинать всё с белого листа – ту, новую, и уже какую-то иную жизнь, – иначе в топком болоте утонешь!..
Как иногда среди мужчин встречаются женоненавистники, так Костя был
противоположность таким – больше всего на свете он любил – ещё на эту ми- нуту не зная об этом – детей, а после уже женщин, которых ему всегда было жаль, и он готов был всегда и во всём их прощать. Во всех бедах на Земле
считал виновниками мужское сословие, а от всего того мрака, который ими был создан, страдают по жизни дети и женщины. На первом месте уважения и любви, конечно же – это была его мать – Надежда Викторовна, в чём сам
себе ещё не признавался. Большое почитание в душе хранил к своей героиче- ской прабабке – Любовь Филипповне, которая покинула этот свет в год его рождения, и которая в войну и немецкую оккупацию прятала в своём доме еврейскую семью. Мать тоже побывала в сталинских тюрьмах, пересылках и лагерях и в его глазах геройски выглядела, к тому же, от природы, не имея
образования, была умной женщиной. В эту минуту его раздумья прервал го- лос дикторши, объявлявшей посадку на электричку: «Граждане пассажиры, электропоезд, следующий до Тихорецка, отправляется через пять минут с третьего пути…». Костя вошёл в вагон. На передней лавочке, у двери, сидела группа молодёжи. Посреди лавки стоял японский огромный двухкассетник – магнитофон: на нём, спереди, сияли два больших динамика, из которых неслась песня на весь вагон, заглушая людские голоса. Взглянув на молодых парней, среди которых были и девчонки: вспомнил и себя пэтэушником, по- думав при этом, – что мир не стоит на месте и гитары из электричек уходят в прошлое, а вместо них сейчас вот эти мощные акустические системы, – как только приеду к матери, гитару повешу на стенку, как реликвию!.. Прислу- шался к песне. Он впервые её слышал: больно за душу щепала, а уже через минуту взяла всецело и поглотила своей глубиной. Из динамиков продол-
жали нестись слова и тот мотив, который говорил обо всём сразу, внося в душу и сердце ностальгию щемящей тоски и той боли, о чём осознать до конца, пока что мешала – ещё не ушедшая от него молодость… Смотрел в
окно невидящим взглядом и плакал в душе, по покинувшей его юности, кото- рая ассоциировалась во всех его троих любимых девушках…
…Оставь мне, молодость, все радости и трудности, свои надежды и мечты, и даль дорог.
Не наполняй мои глаза житейской мудростью, оставь в них, молодость, шальной свой огонёк Уйдите прочь мои раздумья невесёлые, Осенний день ветрами сердце не студи,
Останься молодость, Кружи как прежде голову, Не уходи, не уходи, не уходи.
Уходят дни, меняя внешность нам безжалостно. Но это в общем-то не главная беда.
Останься, молодость Побудь со мной, пожалуйста. А если можешь, оставайся навсегда.
Уйдите прочь мои раздумья невесёлые, Осенний день ветрами сердце не студи Останься молодость Кружи как прежде голову Не уходи, не уходи, не уходи…
Продолжая стоять у окна и опёршись лбом в вагонное стекло, слушая
песню, которую прокручивали на магнитофонной ленте по второму разу: у
Кости по щекам в это время текли слёзы. В сознании мелькали кадры послед- них десяти лет его жизни и словно в фильме – по кадрам: в глазах попере- менно мелькали образы Ларисы и Марыси, но, как он сейчас не пытался,
представить воочию в мыслях Марину, она, по какой-то неизвестной при- чине, приходить к нему не пожелала…».
Финальная часть – заключительного аккорда романа – применима к боль- шинству людей на этом свете, ибо подобные мысли и чувства их посещали в обязательном порядке и скорее всего не один раз…
Роман «В сумерках нищеты». И прежде, чем что-то о нём сказать, я также повторю всего несколько строк из этого романа. Возможно, они корень, и на мой взгляд, самые главные и ключевые слова в нём, ибо не я их придумал, они сами откуда-то ко мне пришли, помимо моей воли:
«…Глафира первой вошла в хату, оставив дверь нараспашку. Немного при- гнув голову, боясь зацепиться за верхний дверной косяк, вошли остальные
члены комиссии. В хате сумрак, как в подземелье; полы – неизвестно сколько лет: толи не мылись, но скорее всего не красились, тем не менее, двое маль- чуганов босиком носились из комнаты в комнату; у одного веник в руках, у второго кочерга: стреляют, а по бородкам тонкой струйкой слюнка бежит.
При виде чужих тёток и дядьки, в кожаной куртке и с наганом на ремне, вдруг замерли на мгновение, потом издав воинский кличь-вопль, нырнули за печку,
после чего по очереди стали выглядывать оттуда. Глафира, стоя посреди хаты, развела в стороны руки, насмешливо, ядовито, сказала:
– Ну что?!.. Проходите!.. пишите!.. а то тут добра через край!.. Кровать забирайте, детям и на полу не вредно будет поспать!.. Там во дворе мо- тоциклетка ещё стоит, наверное, уже видели?.. её тоже не жалко, а то Савка на неё всё денег просит. За корову даже не думайте!.. Вначале надо будет меня пристрелить, прежде, чем я её вам отдам!.. Ну?.. чаво вы мол-
чите, как в рот воды-то набрали?!.. Мою родную деревню под Рязанью уни- чтожили, теперь и сюда добрались?!..».
Я сам написал эти строки, и как я уже сказал, – неизвестно, откуда ко мне
пришедшие; после перечитывал их не один раз, и каждый раз у меня на глаза наворачивались слёзы, ибо в словах Глафиры заключена вся трагедия Россий- ской действительности. Судьба всего Российского крестьянства. Потому от дальнейших комментарий я воздержусь…
Роман «В сумерках нищеты» был дополнен рассказами на темы местного станично-житейского фольклора и вышел он, опередив роман «На закате»,
который является первой частью этого произведения, как и тематики, по при- чине, что первая часть романа на тот момент требовала ещё моей редакции. Немного юмора, гротеска и реалий из современной исторической действи- тельности, критика власти и голая правда в глаза: таким я его видел, этот ро- ман в двух частях, таким он у меня и получился. Хотя я в нём и жил всё то время, когда писал, и как я уже говорил неоднократно, – не мне судить, да и вряд ли сейчас в нынешние времена, кому-то нужны не только мои произве- дения, но и всех остальных, более известных писателей. Один человек мне
прямо сказал: «Никому это сейчас не нужно… Напиши ты, Санёк, подряд хоть три «Войны и Мира», а вслед, ещё два «Тихих Дона», даже читать никто не
станет. Скажут, – мура!..».
Вот этой самой «мурой» мы и продолжим, отвлёкшись на время от темы, ибо каждый раз после того, когда произведение уже закончено, не хочется
расставаться с его героями и персонажами, а вслед, в душе почему-то появля- ется обманчивая и призрачная надежда, что очередная твоя вещь будет не- обычна и она должна покорить весь мир… Но, как говорят многие просвети- тели, – с нею, с этой самой надеждой и мыслью, писатель уходит в небытие, унося вслед за собой в могилу тот самый роман, который всю жизнь написать собирался…
Глава из романа «На закате», не вошедшая в произведение.
Порок.
Любезно просим читателя, немножко расслабиться и ради разрядки, вернувшись к героям, последнего, уже опубликованного и взятого в тиски обложки романа – «На закате», прочтём главу, не вошедшую в книгу. Этой главе удалось при редакции попасть под сокращение, а там, кстати, глав- ный герой подвержен незаслуженным мытарствам и душевным страда- ниям – в отношении женского пола, в чём вы сейчас и убедитесь наглядно…
После того рокового дня и очень скандального инцидента, когда, кровь с носа, но Ивану Ильичу пришлось распрощаться с «вип-номером» у зоопарка, у той самой скандальной старухи, трактористки-ударницы – Макаровны, кото- рую он, беря пример с Родиона Раскольникова, без малого чуть было на тот
свет не отправил… Вовремя, господь бог сподобился, и Гендоша за руку схва- тив, отвёл беду от буйной его головушки. Правда, он, как ярый в прошлом атеист, в это совсем не верит, и говорит: что он, типа того, сам себя остано- вил, чтобы не зарубить её топором… Да прям-таки насмерть!.. Оно-то, не нам об этом судить: так это было или иначе, может, старуха того и заслужила! Не святая была, а с гадючьих головок! и бог ей судья. Так вот, с того дня прошло не так уж и много времени и жизнь, как и прозябание Побрякушкина-погре- мушкина за эти дни явно не улучшилась… Впереди его ожидала всё та же тя- гомотня, которой не позавидует и бомж с десятилетним стажем, а колесо ле- дяной купели, подмяв под себя, поволокёт его по болоту ростовских по- моек…
Продолжим, читатель, и всё по порядку. Покинув старушечью обитель-ко- нуру, а попросту клоповник и рассадник тараканов… Хотя об этом, вроде бы и горевать не стоит, но всё-таки, какая бы и ни была, но крыша над головой. А теперь ему, товарищу Гендошу, хоть иди и в Дону утопись!.. Вот уже который день подряд он ходил, бродил спотыкаясь, как торчок-наркоман, и всё про- должал думать о той женщине, с которой случайно довелось ему побеседо- вать всего несколько минут на том блошином рынке, в переулке Семашко.
Предаваясь унылым, а периодами и довольно мрачным мыслям, как и сама
его судьба, подталкивающая его в спину, Побрякушкин-Куцанков, сейчас не- торопливо шествовал, а попросту – брел по улице Станиславского, продол- жая, как мы уже сказали, спотыкаться на трамвайных путях и направляясь в
сторону Старого базара. В эти скорбные для него минуты, как и непогода в то ужасное утро, где-то в глубине души таил он надежду, вновь встретить её – ту незнакомку… И продолжая придерживаться правила, которое гласило: не верь, не бойся, не проси, которому его ещё учила школа, затем институт, а по- следнее напутствие, как помнится, по этому поводу, на длинную и долгую до- рогу, давала незабвенная тёща: «…Прежде, чем тебя законопатят в след-
ственную камеру, успей в них рассажать своих подчинённых!..», – звучали эти слова в ушах вместе с ветром. На эту минуту Гендош поставил на той незна- комке не только твёрдый знак, а само ударение, хотя периодами и задавал
сам себе один и тот же вопрос: «Спрашивается, зачем?!.. Кому ты нужен?!..». Сырой ветер, дувший сквозняком, как в трубу, вдоль улицы Станиславского
– пронизывая всё насквозь и с остервенением воя в проводах – дорывал на Гендоше последние обноски. Холодил под тряпьём его ещё молодое и где-то несомненно и крайне востребованное мужское тело, о чём он, конечно же, не мог знать на данное время, и которое после холода у него всегда по ночам сильно чесалось. Стараясь не думать об этом, Иван Ильич продолжал брести наугад, испытывая судьбу, как сказали бы где-то в армейских кругах: на проч- ность, выносливость и нечеловеческое терпение, чтобы, не дай бог, да не по- лезть случайно в петлю, как последний предатель Родины… О чём – как
помнится – на эту тему ещё с тёщей, Инессой Остаповной, когда-то они пла- менную речь ночью вели. Да, да – в ту злополучную ночь диалог тот состо- ялся, когда синим пламенем полыхала его фабрика и вся его жизнь рушилась в пропасть обвалом… Прямь, как собаке под хвост…
Пока Побрякушкин семенил ногами, крепко задумавшись, а в это же са- мое время, в старой части городских кварталов – «папы-Ростова» – в подъ- езде старинного дома, ещё дореволюционной постройки, в районе, извест- ной на весь город, Богатяновки, по улице Седова, спускались торопливо на низ, направляясь к выходу, двое молодых парней, впереди которых – по ка- менным ступенькам – стуча каблучками, спускалась на низ ещё и шикарная дама. Если понаблюдать со стороны, то, как часто оценивали многочислен-
ные гости, из числа клиентуры – по водке, дамочка – выглядела явное не «фу- фло» и ею была Клавдия Максимовна Сироткина. Одета она была по послед- ней шик-моде, на мордочку симпампулечка, да и вообще – миловидная ба- рышня бальзаковского возраста. Чем-то она уж очень сильно напоминала и
даже похожа была на известную актрису советского кино Федосееву-Шук-
шину. Следом за нею плелись: Сидоров Георгий, в обиходе прозываемый Жо- рой-Капустой, а за ним шлёпал своим плоскостопием, как тюлень ластами по льду, его ровесник и «брат», если считать от самого раннего детства – по
Азовскому детдому, а впоследствии подельник и «сидельник» всё в той же Азовской, но уже исправительной колонии для несовершеннолетних – Юра Сундуков. Такой же двадцатилетний раздолбай, как и Жорж-Капуста, но уже под кличкой – Хомяк-косолапый.
В это пасмурное и непогожее утро, в подъезде древнего дома, помнящего ещё дворян и всяких там захудалых князьёв и графъёв, и несмотря на то, что и улица носит название прославленного мореплавателя Седова, в полутём- ном пространстве лестничных маршей стоял удушающий запах собачьей мочи, с добавлением ещё и человеческих испражнений. Углы и ступени – к всеобщему и вашему сведению, граждан и соседей в подъезде – ещё и агрес- сивно попахивали примесью кошачьего помёта и территориальных их меток, но уже – кошачьих испражнений. На удивление, все участники жилищного
процесса, в этом первом подъезде, давным-давно уже так внюхались в эту невыносимую вонь, что ничегошеньки даже не замечали, как будто бы пах- нет свеже-сваренным кофе. В руках у Клавдии-Жульеты был блестящий, эта- кий переливающий всеми цветами радуги, лакированный ридикюль, где, ве- роятней всего, лежала немаленькая сумма денег: разумеется, по тем време- нам и, если исходить из дороговизны самого ридикюля. В зубах у неё – меж накрашенных пухлых губ – торчала длинная предлинная папироса. Эта самая папироса сейчас дымила, наполняя подъезд ароматом тропических трав, и
была – эта цигарка – неизвестного происхождения, может быть, привезена из самой Гаваны. Но этот вопрос скорее всего относился к простолюдинам и к остальным обывателям дома – а папиросы такие продавались в табачных ки-
осках, как и те же Гаванские сигары – дорого, конечно, и в то же время только на штуку. Юра-Хомяк в руке нёс авоську с пустыми бутылками из-под кефира. Нёс для того, чтобы сдать их по двадцать копеек за штуку, и тут же снова ку-
пить, но уже по тридцать копеек, наполненные обезжиренным кефиром. Та- кая разбежка в цене кефира и самой посуды, когда содержимое в два раза дешевле посуды, было придумано властью умышленно, чтобы бутылки сда- вали. Умно и практично, – думает автор. Жорик-Капуста, держа на-пупку, та- щил картонную коробку, в которой тарахтели, позванивая, тоже пустые бу- тылки, но они были уже из-под пива, вина и ликёра. Бутылки из-под водки
они не сдавали, по причине того, что они её никогда и не покупали, а наобо- рот, собирали пустую посуду из-под водки по всему центру города и сносили в квартиру… Секрет этой манипуляции нам предстоит ещё узнать…
Вернувшись, к предыдущему высказыванию, насчёт кефира и посуды, от себя мы добавим. В том прошлом, так называемом – Брежневском периоде развитого социализма – «застое» – было неисчислимо много великих и про-
сто хороших, не только достижений, но и других разумных вещей, которые во времена, так называемых Горбачёвских «реформ», отменять не стоило было. Отменить следовало всего малость, всего несколько пунктов, – ну, не более десяти. Разрешить мелкую и среднюю частную собственность, как и предпри- нимательство, не казнить за те несчастные сто долларов, найденных у тебя в кармане; узаконить свободу слова и печати. И главное, принять закон много- партийности. Остальное всё должно было функционировать в рамках свобод- ного рынка и конкуренции. Но это уже – только слова, ибо начали всё и как всегда – с заднего прохода, и со словами: «…Разрушим всё до основанья, нанесём сокрушительный удар, и камне на камне не оставим от прежней той жизни «застойной». В древнем Египте, новый фараон приходя к власти, рас- поряжался стереть любое упоминание о прежнем правителе. Уподобившись этому, в конечном счёте превратили Великую державу в какую-то Колумбию
и Гондурас, где мафиозно-правящая верхушка – наркобароны и казнокрады – правят страной… Мы удалились от темы, вернёмся всё-таки к нашим персона- жам.
Сидоров-Капуста и Хомяк-Сундуков не всегда проживали в этом доме, но вот уже второй год как они обитали в квартире у тёти Клавы. По крайней
мере, эти два, оболтуса-обормота – так Клава часто их называла – по возрасту и впрямь годились ей в племянники, и обращались они к ней, как к родной тёте. И словно в унисон всему этому, жильцы во всём доме именно так и ду- мали, что это племянники, прибывшие из какой-то глухой и неизвестной де- ревни. И даже, когда они на пару укладывались к тёте Клаве под бочок – пе- респать с ней в мягкой постели – один с краю, второй от стенки, а Клава, по
прозвищу Жульета-авоська – посредине, то и при этом Юра-косолапый, часто гундося, спрашивал: «Тётя Клава, мой локоть в бок вам не давит?.. а то мне уже некуда его девать… И до вашей титьки я почему-то не достаю…». А в это время от стенки, из-за растянувшейся на спине Жульеты-авоськи, которая в
этот промежуток времени лежала и млела, в ожидании любовных утех и страсти, слышался голос Жорика-Капусты: «А я вам чё, резиновый?!.. на стенку я не полезу, она холодная!..».
Но это случится чуть позже. Обычно это случается уже довольно поздним вечером, когда они, вернувшись домой, и после того, как провернут и посвя- тят часть времени на реализацию палёной водки, после чего уклавшись в по- стель, приступают к заключительной части дневного бытия. Потому не стоит забегать нам вперёд, и раз они будут этим развратом заниматься уже ночью, мы вернёмся в то ветреное и хмурое утро в подъезд буржуйского дома, где они проживали, на улицу Седова.
Клавдия Максимовна Сироткина, дама была уже давно перезревшая, но как всякая здоровая и не страдающая фригидностью женщина, считала себя молодой и относила себя к числу шансонеток; была она падкая до плотских утех и шалостей всяких интимных, и в особенности, что касаемо было этих двоих молодых парней. Возможно, на этой почве, сама и не заметила, как оказалась яловой «тёлкой». И, как мы уже сказали, что её ещё иногда назы- вали жильцы дома – Жульета-авоська, по причине того, что, и она и её «пле- мяши» – весь день напролёт таскали эти самые авоськи, а в них бутылки пу- стые из-под водки и ещё непонятно что. Клавдия Максимовна была хохлуш- кой – если и этот вопрос интересует читателя, и он намерен, оценивать жен- ский пол по признакам национального разделения диалекта языка. Так вот, Клавочка, являясь на данный момент подругой жизни для этих двоих лобо- трясов, но, что касается остальных жильцов трёхэтажного дома, ложила на них всех разом и притом – с прибором. По отношению к жильцам дома Клав- дия часто выстраивала своё поведение так, что иных, из числа мужского со-
словия, она покоряла своим обаянием, а на остальных просто начхала и вела себя подобающе той обыденности: хоть хватай узлы с манатками и беги, куда глаза видят… Бывало, в минуты раздражения, в особенности по утрам, на весь подъезд истошно кричала:
– Я вас приучу Родину любить, хамьё староверческое!.. И эти мои, идиоты, туда же!.. Хомяк, а ну вернись!.. твою дивизию мать!.. Ты слышишь, что я к тебе обращаюсь? Уркаган, ты детдомовский!.. Шоб ты до вечера сбисывся!.. Куда тебя понесло, если посуда на месте стоит?!..
Вот и в это ветреное утро, Клавдия Сироткина, спускаясь по ступенькам,
чихнула раза два подряд, вероятно, тем самым, застарелая аллергия на коша- чью и собачью мочу, напомнила о себе знать. Подойдя первой к выходу, она порывисто распахнула перекособоченную дверь. Эта дверь продолжала нести свою службу не меньше, чем уже полтора столетия; но, как помнили
эти стены, последний раз она красилась ещё при Александре-третьем, «Ми- ротворце». Было это очень давно, и, если считать с этого «судного» дня, то —
ещё в позапрошлом веке, когда он собирался, было, приехать в столицу Дон- ского казачества, Новочеркасск. Приехать ему не удалось, по причине затвор- ничества и беспробудного пьянства, а говоря, простыми словами, – очеред- ного глубокого запоя, сия миссия и не была исполнена. Вот эту самую истори- ческую дверь: в ту же минуту, как её распахнула Клава, сильнейший порыв ветра вырвал из её рук. На улице, за порогом бесновалась погода, а тот са- мый ветер дувший с гнилого кутка – со стороны татаро-монгольского Крыма, сметая всё на своём пути, как в знойное лето в степи саранча, а то и орда. Ка- залось, что со следующим порывом ветра рухнет от ветхости дом, который в
эту минуту поскрипывал всеми своими суставами, где-то вверху трех этажей и особенно кровлей…