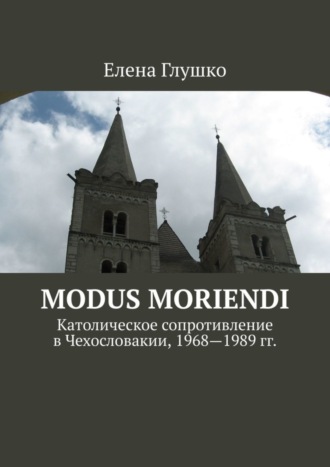
Полная версия
Modus moriendi. Католическое сопротивление в Чехословакии, 1968-1989 гг.
Если говорить о внутрицерковной ситуации и о том, как на жизни католической церкви Чехословакии отразилось центральное событие в истории Католической церкви в ХХ веке, то здесь необходимо еще раз упомянуть движение «Дело соборного обновления», которое должно было объединять как клириков, так и мирян. Одной из составляющих ДСО был Рабочий центр теологии, который после 21 августа перешел в юрисдикцию пражской апостольской администратуры. Под его эгидой в 1968—1969 учебном году проводились лекции как отечественных, так и зарубежных богословов, в т. ч. К. Ранера73. В 1970 г. на основе Центра возникла Теологическая комиссия при Совете епископов и генеральных викариев, в задачу которой входило «оживление нашей теологии, прежде всего на основе аджорнаменто»74. В состав комиссии входили в основном богословы, прошедшие лагеря: священники Й. Звержина, О Мадр, З. Б. Боуше OFM, Д. Пецка OP, Ф. Шилган SJ, М. Габань OP, А. Мандл, Я. Е. Урбан OFM и др. Комиссия в данном составе просуществовала до 1973 г., однако не имела влияния на публичную церковную практику. С начала 1970-х гг. фактическое применение идей Собора в Чехословакии проходило главным образом вне официальных рамок.
В 1968 г. при апостольском администраторе Ф. Томашеке несколько месяцев существовал пастырский совет, куда входили и миряне. Он стал прообразом целого ряда более или менее формальных кружков, сложившихся вокруг Томашека в последующее двадцатилетие. Близкими сотрудниками Ф. Томашека, позднее архиепископа Пражского и кардинала, стали уже упомянутые священники О. Мадр, Й. Звержина, некоторые миряне; в 80-х гг. круг его помощников пополнили католики, подписавшие «Хартию-77», и активные деятели словацкого католического подполья.
В 1950-х – первой половине 1960-х гг. даже официальные богословские учебные заведения Чехословакии не имели возможности получать литературу из-за рубежа75. Однако во второй половине 1960-х гг. было издано некоторое количество литературы, посвященной проблематике Второго Ватиканского собора. В 1969—1972 гг. в Братиславе удалось выпустить двухтомное издание документов Собора76, а в Праге в 1970 г. вышла брошюра священника С. Краткого о Соборе77. В 1968—1970 гг., кроме того, официальный католический еженедельник «Католицке новины» в Праге находился в руках либеральной редакции, а вместо журнала «Духовни пастырж» выходил богословский ежемесячник «Via», главным редактором которого был Й. Звержина; в этих изданиях активно публиковались переводы западной богословской литературы. В 1968 г. пражский апостольский администратор Франтишек Томашек получил разрешение властей на создание Литургической (также известной как Постсоборная) библиотеки при пражском архиепископстве, а также на получение книг для этой библиотеки из-за границы. На тех же условиях существовала и Архиепископская библиотека в Оломоуце. В страну активно ввозили литературу, изданную в Риме – Словацким институтом имени Кирилла и Мефодия и Чешской христианской академией. В период «нормализации» контроль на границах ужесточился, но вплоть до 1989 г. полностью перекрыть нелегальный приток литературы не удалось. В ее транспортировке участвовали зарубежные туристы, дипломаты, были примеры крупномасштабной контрабанды литературы: в грузовиках, в машинах с двойным дном, тайно через горы, под видом туристического снаряжения и т. д. Внутри страны эта литература переводилась и распространялась в самиздате, который, в первую очередь в Словакии, имел значительные тиражи и широкое хождение.
20 августа 1968 в рамках Дела соборного обновления был открыт Богословско-пастырский курс для священников (доступный, впрочем, и для мирян); однако следующее занятие удалось провести лишь осенью. Курс так или иначе продолжался вплоть до 1971 г.; лекции читали священники А. Брадна, Я.Е.Урбан, Й. Звержина и др78. Осенью 1968 г. для широкой публики читался (и просуществовал до 1970) курс лекций «Живая теология», пользовавшийся огромной популярностью. Курс курировали пражское архиепископство, Богословский факультет Кирилла и Мефодия в Праге (после 1950 г. единственное богословское учебное заведение в чешских землях, где в 1969—1970 г. получили возможность преподавать католические активисты) и редакция журнала «Via». После 1970 г. деятели периода Пражской весны лишились возможности публичной работы, и богословское образование ушло в подполье.
Завершая тему «богословского аджорнаменто» в Чехословакии 60-х гг., следует подчеркнуть, что к концу 70-х гг. в Чехословакии сформировался целый ряд «подпольных университетов», религиозно-философских курсов и семинаров, открытых в том числе для мирян, где изучалось «постсоборное» католическое богословие. Занятия такого рода организовывали самые разные группы, в частности, францисканский орден, салезианцы Дона Боско, о. Ото Мадр и его помощники, группы под руководством Ф. М. Давидека, В. Дворжака, Я. Конзала, П. Градилека, в Словакии – группы под руководством С. Крчмери, В. Юкла, Я. Летца, Ф. Заградника и др. В качестве учебных материалов использовалась переводная литература, «тамиздат», а также оригинальные богословские работы (здесь следует упомянуть «теологию агапэ» Йозефа Звержины, «теологию парусии» Ф. М. Давидека и др.).
По мнению чешского историка Ярослава Цугры79, конец политики «оттепели» в отношении церквей ознаменовал документ, подготовленный для Президиума ЦК КПЧ в апреле 1970 г. и содержавший анализ сложившейся ситуации и предложения по дальнейшей работе в этой области80. В документе специально пояснялось, что «изменения в деятельности католической церкви, вытекающие из решений II Ватиканского собора, могут осуществляться лишь в соответствии с нашими законами, которые регулируют отношение государства к церквям…»81. Также предполагалось «предоставить полную политическую, правовую и материальную поддержку священникам, которые лояльно относятся к социалистическому устройству. Поддерживать возникновение нового движения католического духовенства вместо распавшегося Движения католического духовенства за мир в качестве основы для работы той части духовенства, которая стоит на платформе социализма и которая парализует влияние Ватикана, зарубежной католической эмиграции и возможных неприятельских взглядов преданной Ватикану церковной иерархии». Надлежало также «не позволить, чтобы католическая церковь основывала новые объединения и организации…. Порекомендовать церковной иерархии приложить все усилия для фактического прекращения деятельности Дела соборного обновления. Обратить внимание церковной иерархии на тот факт, что во многих местах развивают недозволенную деятельность различные церковные ассоциации, религиозные кружки, церковные общины по интересам и т.д… Воспрепятствовать попыткам восстановления апостолата мирян, особенно что касается лекций и духовных упражнений для мирян, которые проводились в 1968 г. и до мая 1969. Деятельность апостолата мирян считать несовместимой с деятельностью католической церкви»82.
Совещания министра культуры Милослава Бружека с делегацией ординариев католической церкви, состоявшиеся в июне и в ноябре 1970 г., не принесли желаемого результата – духовные лица не хотели поддерживать новый государственный курс. Впрочем, правительство имело в своем арсенале другие средства убеждения. Так, уже в апреле 1970 в Брно и Праге был закрыт курс лекций «Живая теология». В ноябре 1970 Карел Груза разослал церквям письмо, где сообщалось, что отныне все собрания верующих требуют предварительного согласования, кроме храмовых богослужений, а также свадебных, похоронных и других ритуальных шествий; лекции и духовные упражнения для мирян запрещались83. С 1971 г. епископы снова стали предъявлять свои пастырские послания и циркулярии для проверки государственным органам. В августе 1971 г. было официально сформировано Объединение католического духовенства «Pacem in terris» – идейный преемник Движения католического духовенства за мир.
Итогом подготовительной работы в области «нормализации» взаимоотношений церквей и государства стал материал «Предложение долговременных мер по урегулированию взаимоотношений КПЧ и государства с церквями, верующими и религиозной идеологией»84. В нем категорически запрещался светский диаконат, высказывалось пожелание противодействовать любым способам вовлечения мирян в жизнь церкви, не допустить подъема интереса к паломничествам. Кроме того, необходимо было «продолжать и далее углубление начатой дифференциации внутри католической церкви. С этой целью, прежде всего, расширять простор для влияния на верующих и деятельности рядовых католических священников через действенную поддержку инициативы духовенства, вступившего в Объединение католического духовенства. С помощью этого движения работать на постоянное ограничение отрицательного влияния значительной части католической иерархии»85. В отношении богословских учебных заведений в документе предлагалось «осуществлять государственный контроль над воспитанием новых священников. Постоянно ограничивать их число в соответствии с основными тактическими и стратегическими целями церковной политики, действительными потребностями церкви и уровнем религиозности населения. Для учебы на богословских факультетах обеспечивать такой набор слушателей, чтобы после окончания они могли исполнять функции духовной особы в социалистическом государстве». В области церковной печати предполагалось «направлять идейное наполнение церковных журналов таким образом, чтобы они поставляли политически окрашенную информацию из области внутренней и внешней политики государства и через соответствующую церковную форму позитивно воздействовали на верующих. Одновременно принять меры, чтобы эти издания постепенно утрачивали церковно-религиозную притягательность. Посредством церковных издательств обеспечить издание лишь такой литературы, которая используется в качестве основной религиозной литературы для верующих (библии, катехизисы, песенники и т.д.). Импорт религиозной литературы из-за границы разрешить лишь для таких изданий, которые импортировались и в прошлом (миссалы, бревиарии, культовая литература) и печать которых для нас чересчур накладна»86.
Таким образом, к 1972 году взаимоотношения государства и церкви были почти окончательно «нормализованы».
Глава 2. Федеральный центр и пражская оппозиция:
1972—1985
Различные формы католического сопротивления в Чехословакии в 1970-80-е годы могут служить примером для демонстрации трех основных моделей взаимодействия государства, церкви и общества: 1) непосредственно политический протест, где выбор католической идеологии носит индивидуальный характер и призван способствовать дополнительному давлению на власть (пражские диссиденты); 2) общественное движение религиозной направленности, которое со временем в результате неустранимых противоречий с существующим режимом обретает характер политического – процесс этой трансформации осуществляется под контролем лидеров, но без активных усилий большинства участников (Апостольское движение мирян в Словакии); 3) ассоциация независимых интеллектуалов, складывающаяся вокруг харизматического лидера (лидеров) и основанная на личных связях; возникающая таким образом параллельная структура не носит сознательно антигосударственного характера, однако классифицируется как таковая государством (община Ф. М. Давидека «Койнотес» и связанные с ней подпольные структуры). За рамками рассмотрения остается целый ряд католических движений и инициатив, таких как подпольные монашеские ордена, общины под руководством священника-салезианца Яна Бенё «Назарет» и «Вифания», движение «Фоколяре», неокатехуменат и др. Следует заметить, что члены практически всех этих движений в рассматриваемый период нередко сотрудничали и помогали друг другу, не нарушая при этом принципы конспирации – то есть зачастую практически ничего друг о друге не зная.
По мнению автора, о единстве движения католического сопротивления в Чехословакии можно говорить лишь применительно к периоду 1985—1989 гг. До этого католические подпольные движения в чешских землях и Словакии развивалось независимо друг от друга.
Что касается чешских земель, здесь рубежным для истории сопротивления является 1977 год.
2.1. «Нормализация», посттравматический шок и возвращение в подполье
После подъема 1968—1970 гг. первая половина 70-х стала периодом упадка для Католической церкви Чехословакии – не только в моральном, но и в количественном аспекте, о чем свидетельствует и официальная статистика. Как указывает историк Ярослав Цугра, «кризис затрагивал не только иерархическую структуру. Несмотря на теоретически многочисленную „членскую основу“… повседневное влияние церкви на общественную жизнь все уменьшалось»87. Католический священник и диссидент Вацлав Малый в своей статье подчеркивает роль негласного «социального договора» в обществе периода нормализации: «После подавления кратковременного „социализма с человеческим лицом“ преследования уже не были столь жестокими, как в предшествующие десятилетия. Это было время без идеалов, когда коммунисты не требовали слепой веры в свою идеологию. Им было достаточно лояльности граждан… Углубляющаяся двойственность жизни – в частной жизни выражать свое подлинное мышление, а на публике молчать и пассивно поддерживать данную систему – отрицательно повлияла на нравственное состояние общества. Результаты этого мы испытываем на себе до сегодняшнего дня. Девизом граждан стало: кто не крадет, обкрадывает семью. Важно только пережить маразм эпохи. На этом фоне зарождалась неофициальная деятельность христиан. Они поняли, что от власть имущих они не могут ожидать больше свободного пространства для деятельности и жизни в вере. Принять распространенную идею о том, что главное – просто выжить, было смерти подобно. Они убедились, что свобода не свалится на них сама, что они должны отвоевать ее, пусть даже ценой разного рода жертв. Начался бег на длинную дистанцию. Постепенно активизировались маленькие группы верующих под руководством священников или способных мирян. Можно сказать, что наступила эпоха „церкви в квартирах“»88.
Религиозная жизнь в стране ушла в глубокое подполье, однако не замерла, о чем свидетельствует, в частности, подготовленная для Президиума ЦК КПЧ в 1972 г. Отчетная записка под названием «Краткая характеристика ситуации в сфере государственной безопасности»: «Римско-католическая церковь продолжает идеологически воздействовать на граждан и склонять их на свою сторону. Она стремится к активизации религиозной жизни и для воздействия в первую очередь на молодежь вводит новые формы пастырской деятельности. Она собирает молодежь нелегально в т. Наз. Апостолатах мирян. В храмах, на приходах, в частных квартирах и летних лагерях, которые эти люди организуют, они настраивают молодежь на изучение богословия и на вступление в церковные ордена. Молодежь в апостолатах мирян приносит священникам обет послушания церкви. Воздействуя на молодежь в антикоммунистическом духе, они достигают хороших результатов, особенно молодые священники»89. В следующем году в аналогичном документе появились уже более тревожные нотки: «В настоящее время активизируются представители церкви. Главное содержание этой активизации – идеологическое, антимарксистское воздействие на верующих, в первую очередь молодежь и интеллигенцию. Подтвердились факты враждебной деятельности церковной иерархии, мирян и монахов, в первую очередь римско-католической церкви. В последнее время почти во всех регионах были выявлены нелегальные группы мирян, состоящие в основном из интеллигенции и молодежи. Далее было выявлено наличие нелегальной иерархии (тайные епископы), которые обеспечивают возможность нелегальной активности, вне рамок официальной церковной жизни. Неразрешенные мужские ордена также развивают значительную активность в приобретении новых членов»90. «Контрольный отчет по реализации стратегических мер в области церковной политики и научно-атеистического воспитания, утвержденных президиумом КПЧ 5 января 1973 года» предупреждал Президиум о следующем: «Особое внимание католическая церковь уделяет включению мирян в религиозную жизнь и пытается построить организованный апостолат мирян. Через его посредство она стремится распространять религиозную идеологию и продвигать свои воззрения на работу органов государственного управления. В некоторых случаях они опираются на деревенских функционеров Ч [ехословацкой] народной партии, которые, напр., в Моравии выступали в ходе католических обрядов в качестве чтецов литургических текстов… Католическая церковь стремится обновить некоторые уже исчезнувшие паломнические традиции и местные праздники, разные юбилейные годовщины и т. д. Так, например, в [месте паломничеств] в Ломечеке в области Страконице собралось невероятное количество верующих (примерно 7000), а на некоторых богослужениях в Словакии бывало и 4000 участников. Большое число участников было отмечено в католических храмах в ходе рождественских праздников 1973 г.»91. По-видимому, именно начало периода «нормализации» обусловило всплеск религиозной активности в Чехословакии: людям стало ясно, что происходящее в их собственной стране неподвластно их контролю, и в поисках внутренней уверенности и опоры они нередко обращались к религии.
Однако такая ситуация не могла сохраняться долго в условиях политического давления, которое приводило к постепенному сокращению числа священников на фоне резкого сокращения числа студентов богословских факультетов, которые только и могли пополнить их ряды. Следует отметить, что наиболее независимые чешские и словацкие католики, видевшие противоречие между подлинно христианской жизнью и политическим конформизмом в условиях государства, запрещавшего все проявления религиозности, кроме формальных, испытывали не только давление со стороны властей: они чувствовали себя преданными Ватиканом. Начиная с понтификата Иоанна XXIII, в течение всего периода «холодной войны» в отношениях с социалистическим блоком Ватикан придерживался принципов так называемой Ostpolitik: полагая своей основной целью назначение новых епископов (вместо интернированных, заключенных, умерших) в пустующие епархии, дабы обеспечить формальное существование католической церкви в стране, Ватикан (в первую очередь в лице Агостино Казароли) считал нужным идти на значительные компромиссы в переговорах с коммунистическими правительствами стран советского блока, в том числе – по крайней мере, в Чехословакии – иногда и за счет представителей «подпольной церкви», крайне неудобных для властей. Степень морального упадка и отчаяния, отчасти и поэтому царившего среди католиков Чехословакии, была непонятна ни чешским и словацким эмигрантам, ни ватиканским иерархам. Характерен в этом отношении комментарий, которым редакция журнала «Студие», издававшегося Чешской христианской академией в Риме, сопроводила публикацию фрагментов «Меморандума христиан Чехословакии»: «мы перепечатали фрагменты… вовсе не потому, что согласны со всеми мнениями и выводами, в нем обозначенными, но потому, что этот документ передает личные и коллективные переживания и опыт некоторых верующих в нынешней Чехословакии»92.
Начинается Меморандум с критики политики Ватикана в Чехословакии. Авторы исходили из того, что христианство должно оставаться аполитическим, надполитическим: оно должно «опасаться того, чтобы создать какую-то идеологию. Оно не должно подчиняться, против своей воли, никакому истеблишменту. Церковь должна возвещать приход Царства Божьего, не становясь то капиталистической, то марксистской и т.д.». Характерна вера авторов в грядущую глобальную победу коммунизма, когда церковь останется лишь маргинализованной группой: «Учитывая бессилие западного мира изменить сложившуюся порочную систему, вполне возможно, что разные формы коммунизма поработят весь мир. Таким образом, вполне вероятно, что однажды евангелие окажется в коммунистическом мире… евангелие и христианство смогут служить обществу, коммунистическому миру, самим себе; ни в коем случае не через конформизм, но через аутентичность, как призыв к радикальной реформе, или, еще лучше, как метанойя, внутреннее обращение». Авторы меморандума считают, что проповедь Евангелия в коммунистическом обществе станет главной возможностью его преображения. «Церковь будущего, в мире, который будет, по всей вероятности, коммунистическим, не может быть „Матерью и учительницей“, символом единства человечества и т.д., как об этом говорит торжественный язык энциклик. Церковь, присутствующая в мире, который, как нам кажется, грядет – это церковь-служительница, подобная Марии; церковь в пустыне, готовая к проповеди евангелия, неизвестная, как Иоанн Креститель…».
Тем не менее, политический конформизм противоречит духу Евангелия: «Мы, живущие при коммунизме, видим историческую роль христианства и свое место в сегодняшнем мире в верности христианству и критике коммунизма». «Христиане должны участвовать в создании позитивных ценностей, но одновременно занимать критическую позицию в духе евангелия, позицию ненасилия, протестовать против любого бесправия, каждого ущемления достоинства человеческой личности, нарушения прав человека и подавления легитимной свободы»93. Таким образом, в этом тексте 1976 года выражается основной парадокс католической политической теологии в социалистической Чехословакии: христианство не соприродно политике, но при этом оно исполняет роль пробного камня, абсолютного ценностного мерила по отношению к ней и может служить опорой для критики политического режима.
Текст, опубликованный как в самиздате, так и в тамиздате в том же 1976 году и ставший символом эпохи «нормализации» в истории католической церкви Чехословакии, носил название «Modus moriendi церкви» (так Агостино Казароли характеризовал тему своих переговоров с чехословацкими властями) и принадлежал перу чешского священника Ото Мадра. Начиналось эссе со слов «Давайте предположим, что церковь умирает» (Приложение ХІ), и его автор ставил своей целью разработать «богословие умирающей церкви». Текст весьма лаконичен, и Мадр не уделяет большого внимания проблемам соотношения богословия и политики; его размах шире: в ситуации умирающей церкви необходимо быть готовым «принять смерть!.. Мужественно смотреть в лицо будущему. Не обманывать ни себя, ни других фальшивыми утешениями… Полностью отвергать один-единственный путь гибели церкви: предательство». «Не замыкаться в себе, а стремиться погрузиться в круговорот Мистического тела. Молиться и приносить жертвы для спасения мира. Не тосковать среди людей как грустный ангел, а напротив, одарять всех светом и теплом своего присутствия». И здесь мы сталкиваемся с социальным восприятием христианской миссии: хотя впрямую в тексте не звучит ни слова о политическом протесте, запрет на предательство явным образом подразумевает готовность отстаивать собственные ценности и в секулярном мире.
2.2. Период 1977—1985: расцвет католического подполья и «Хартия-77»
К этому периоду в чешских землях сформировалось значительное многообразие различных форм сопротивления – форм того, что католический философ Вацлав Бенда в одноименном эссе назвал «параллельный полис»94, среди которых были как религиозные, так и сугубо светские, гражданские инициативы. Независимая от государства деятельность в условиях «нормализации» подразумевала соблюдение определенных правил конспирации, одним из которых являлся принцип «не пересекать круги»95. Поэтому организация летних католических лагерей для детей, создание подпольных семинарий, публикация в самиздате большого числа отсутствующей на официальном книжном рынке католической литературы – все это в основном происходило за пределами «светского» сопротивления, «Хартии-77» и Комитета по защите несправедливо преследуемых. Тем не менее, были и люди, выступавшие в роли «связных» между разными кругами сопротивления; ниже о них пойдет речь более подробно.
В конце 70-х гг. активизируются самые разные подпольные католические группы. Часть монашеских орденов (иезуиты, салезиане, капуцины) не прекращали тайное обучение новициев, их духовную формацию и развитие собственного служения с 1950 года, но в период после «Пражской весны» эти процессы обрели новое качество и отчасти вышли на поверхность (например, как свидетельствует о. Фидель Марек Пагач OFMCap, в 1968 году 6 ранее тайно рукоположенных капуцинов стали приходскими священниками96). Часть орденов (францисканцы, доминиканцы, пиаристы) сумели фактически возродить свою деятельность и обновить новициат лишь в период «нормализации». Развивались и международные контакты: так, у доминиканцев преподавали поляки – они сотрудничали с польским Папским факультетом в Кракове. Благодаря прямой поддержке Стефана Вышиньского, им засчитывали тайные экзамены как сданные на этом факультете. Впрочем, за весь социалистический период образование таким образом получили лишь 35—40 человек; госбезопасность знала об этих курсах97. С польскими епископами, а также, по некоторым свидетельствам, напрямую с Римом, поддерживали отношения и капуцины, которые действовали в это время зачастую независимо от родственного ордена францисканцев98, а также вербисты99.



