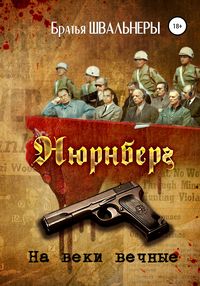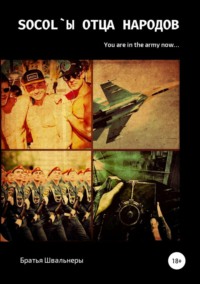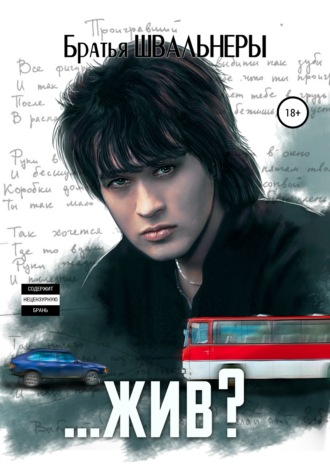
Полная версия
…жив?
–Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала провести эксгумацию и установить, кому все это было выгодно. «Cui prodest», как говорили в старину. Выявим причастных, а там уж…
–По-моему, вы не там ищете. Если уж озаботились поисками серьезно, то надо вам вот что прочитать…
С этими словами она взяла со стола несколько листков печатного текста и протянула следователю. Вверху первой страницы было напечатано: «Виктор Цой. Романс (рассказ)».
Досье («Романс» Цоя). «Романс» – рассказ Виктора Цоя. Написан в феврале 1987 года в знаменитой котельной «Камчатка». При жизни автора не издавался, впервые читатели познакомились с ним в 1997 году в обновленной версии книги «Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания».
Произведение наполнено абстракциями и странными образами, в чем-то напоминая «наркотическое бодрствование» героев «Иглы». Только в «Романсе» – сверхсюрреализм, сверхабстракция. В нем, несколько перефразируя слова критика, «заканчивается романтическая ирония, а дальше простирается неоромантическая».
«Романс» достаточно сложен для понимания, однако привлекает к себе необычным использованием художественных образов и странностью мира, в котором пребывают его герои. Где-то проглядывают приемы нонсенса, а где-то – сюжеты видеофильмов из 90-х годов. Столь разнородный конгломерат в итоге превратился в достаточно интересное и самобытное произведение, достойное занимать подобающее место в российской субкультуре. Впрочем, и в обыкновенной литературе тоже.
-Это его творчество? Он и прозу писал? Не знала, – пожала плечами Ашмане. – А о чем это?
–Сложно дать однозначный ответ, – пожала плечами Валентина Викторовна. – Но многие исследователи его творчества говорят, что тайны его жизни и смерти – все здесь зашифровано. Надо только ключ найти, понять. А уж потом приниматься за эксгумацию и прочие мероприятия. Без правильной формулы в самом начале остальные расчеты будут неверны…
Из рассказа Виктора Цоя «Романс» (глава № 1):
«…Он вдруг задал себе вопрос:
– Что у меня есть?
– У меня есть Дело, – начал размышлять Он. – И есть люди, которые помогают мне, хотят они того или нет, и люди, которые мешают мне, хотят они того или нет. И я благодарен им и, в принципе, делаю это Дело для них, но ведь мне это тоже приносит удовлетворение и удовольствие. Означает ли это наличие какой-то гармонии между мной и миром? Видимо, да, но нитка этой гармонии все-таки очень тонкая, иначе не было бы так трудно просыпаться по утрам и мысли о смерти и вечности и собственном ничтожестве не повергали бы в такую глубокую депрессию.
Однако единственный, по Его мнению, приемлемый путь добиться спокойного отношения к смерти и вечности, предлагаемый Востоком, все-таки не мог найти отклика в нем, так как предполагал отказ от различных развлечений и удовольствий. Сама мысль об этом была Ему невыносимо скучна. Казалось нелепым тратить жизнь на то, чтобы привести себя в полного безразличия к ней. Напротив, Он был уверен, что в удовольствии отказывать себе глупо и что заложенные в Нем духовные программы сами разберутся, что хорошо, а что плохо. Он приподнялся на локтях и посмотрел за окно, и огоньки еще не погасших окон показались Ему искрами сигарет в руках идущих в ночную смену рабочих. Он вдруг представил, как они стоят кучкой на перекрестке и, ежась от ветра, вырванные из теплых квартир, ждут служебный автобус.
Захотелось курить. Решив, что желание курить все-таки сильнее, чем желание остаться лежать и не шевелиться, Он встал, набросил свой старый потрепанный халат и, сунув ноги в тапки, побрел на кухню. Закурив, Он некоторое время сидел нога на ногу, жмурился от яркого света и внимательно смотрел на дым папиросы. Со стороны мундштука дым шел слегка желтоватый, а с другой – синеватый. Переплетаясь, дым тягуче поднимался вверх и рассеивался у закопченной вентиляционной решетки. Тут Он поймал себя на мысли, что минуту назад вообще ни о чем не думал, а был всецело поглощен созерцанием поднимающегося вверх дыма. Он засмеялся. Видимо, в этот неуловимый момент Он как раз и находился в состоянии полной гармонии с миром. Затем Он вспомнил, что нужно достать где-то денег и купить не особенно протекающую обувь. "Старая, – практично подумал Он, – протянет еще от силы недели две, а скоро весна." Докурив и снова зевнув, Он немного подался корпусом назад, отчего не груди Его, под левым соском, образовался проем с мягкими неровными краями. Глубоко погрузив туда руку, Он осторожно достал свое сердце, которое лежало там как в мягко выстеленном птичьем гнезде. Ощупав его и немного подышав на гладкую глянцевую поверхность, Он открыл дверцу кухонного шкафа и бросил его в мусорное ведро. Сердце лежало там неподвижно, затем стенки ведра начали покрываться инеем. Он встал, потянулся и пошел обратно в комнату. Перед самым замыканием краев проема внутрь незаметно залетел мотылек. Уже засыпая, Он услышал, как за стеной зазвонил будильник.
Проснулся Он от занудно крутящейся в мозгу строчки:
"Ты, семь, восемь, Ты, семь, восемь."
Встав с постели, Он шатаясь пошел в туалет. По пути из туалета в ванную Его настиг приступ рвоты. Перегнувшись через эмалированный край, Он засунул в рот два пальца и вдруг почувствовал, как под пальцем что-то шевелится. Он резко отдернул руку, и вслед за этим бесчисленное множество мотыльков так облепили лампочку, что уже через минуту Он оказался в полной темноте, в которой было слышно только шуршание крыльев и звук падения в раковину маленьких мертвых тел. Он успел заметить, что мотыльки были ярко-красные как кровь. Строчка продолжала играть:
"Ты, семь, восемь, Ты, семь, восемь."
Вернувшись в комнату, Он достал из ящика два пистолета, вставил дула в ушные раковины и одновременно нажал на курки. Падая, Он почувствовал, что пули сошлись точно в центре и расплющились одна об другую».
Глава вторая
«…Проходя мимо слабо освещенной телефонной будки, Он вдруг заметил в ней какую-то странность. Рывком оттащив прислонившегося к ней спящего человека, Он открыл скрипящую дверь и увидел: на телефонном диске вместо цифр – буквы и геометрические фигуры. Он достал записную книжку, набрал номер: В, А, квадрат, Г, треугольник и почти сразу услышал радостный, знакомый голос:
-Это ты?
-Это Он?
-Это ты?
-Это Он?»
Цой, «Романс», финальная сцена
А потом была встреча с Ней – чего не сделаешь, чтобы только избежать встречи с охотниками. Он заметил, что во время этих частых, но коротких, чаще всего вынужденных, встреч Она всегда грустит. Наверное, решил Он, Она поняла, что нужна ему только для удовлетворения потребностей и, пардон, чтобы головы не лишиться во время Охоты. Ему стало грустно от осознания того, что Она не такая уж дура, и все понимает.
Но почти сразу Он отогнал от себя эту мысль – с другой стороны, подумал Он, чего она хочет, если никаких особо тесных отношений между ними нет? Хоть бы раз призналась Она сама Ему в любви, сама проявила инициативу. Вон девушка, которую приводил Брат, давно уже объяснилась с ним. Да чего там – Брат у Нее с языка не сходит. Чем плохой пример? Он читал, что были когда-то времена, когда девушек принято было добиваться, но они давно прошли, поросли мхом и превратились в былинные. Надо перестраиваться. Все и вся ждут перемен, но никто не решается революционно провести их в жизнь. А что бывает, когда никто не решается? Тогда перемены сами постепенно входят в быт, вытесняя быт прежний. Но в таком случае процесс становится неподконтрольным… Что же выходит? От таких нерешительных в мелочах людей, как Она, зависит сама жизнь. И влияют они на нее не лучшим образом.
Обо всем этом Он думал, лежа у Нее на коленях. Она проводила руками по его обнаженному телу, будучи не в состоянии, казалось, насытиться Его присутствием, и оттого казалась Ему еще более навязчивой. От навязчивых людей Ему всегда хотелось бежать как можно дальше, но пока бежать было некуда – Охота еще продолжалась, и, сидя в ее маленькой квартирке, они не решались включать свет лишний раз, чтобы не встречаться с тем, с кем не следует. Ничего не оставалось, как предаваться любви.
Хотя, любовью это назвать было нельзя. И страстью тоже – потому что страсть есть некое подобие чувства, а у Него к Ней чувств не было. Скорее, животное совокупление – вот что это было такое. И не приносило уже Ему радости, как раньше, а, скорее, больше изнашивало – впечатление было такое, что Она Им пользуется. Причем, настолько сильное впечатление, что после совокупления Он подходил к зеркалу, осматривал всего себя, даже открывал грудную клетку и смотрел на сердце – не изменилось ли оно, не появилось ли в нем чувств, не стало ли оно по-особенному биться, как бьется у любящих людей? «А откуда мне знать, как оно у любящих, когда мне это чувство неведомо?» – с горечью думал Он и, констатировав статичность сердечной мышцы, возвращался в кровать.
Когда, казалось, Он совсем уже устает от Нее, Охота заканчивалась. Всегда это происходило поразительно вовремя – еще немного, минута буквально, и терпение Его могло лопнуть, Он мог наговорить Ей гадостей, ударить Ее, превратить Ее в миллионы осколков, которые после самому пришлось бы собирать (во время следующей Охоты). Но до этого, к счастью для обоих, не доходило. К несчастью для них же, в эту минуту начиналось Его вранье. Даже хуже вранья – это было молчание. И это молчание было тем опасно, что оно давало Ей повод домысливать, что они не чужие люди, что Он, возможно, питает что-то к ней и придет до следующей Охоты. Он не приходил. А Она все равно так думала. Ну кто же запретит Ей думать?..
«Ладно, пусть думает, а я пойду. Скажусь занятым. Надоело».
Охота кончалась, а день еще нет. Надо было где-то провести его остаток, а домой идти не хотелось – после массового гуляния еще несколько дней витал в душе приятный осадок раскрепощения народных масс, и Его самого, в том числе. Хотелось еще хмеля на губах, еще веселых танцев с песнями, которые никто не понимал, но которые так поднимали всем настроение. «Запретный плод сладок, – думал Он. – Потому эти гуляния так влекут людей, что они редки. В общем-то, официально они не запрещены, но проводят их нечасто, времени ведь нет ни у кого. И потому люди их еще ждут. Страшно себе представить, что будет, когда ждать перестанут. Когда они начнут проводиться чаще. Чем тогда жить? Как созерцать тогда весь окружающий ужас? Ведь тогда придется его менять, а к этому никто не готов…»
Такие мысли пугали Его, Он старался от них убегать, как убегал от Нее после окончания Охоты. И не было лучше места для этих побегов, чем ресторан «Капитан» в центре города.
Незамысловатое название придумал хозяин – неизвестно, был ли он когда-нибудь настоящим капитаном и вообще видел ли море, но звали его почему-то именно так. Да он, собственно, никогда ни про море, ни про волны, ни про корабли и не разговаривал – с чего все в один день вдруг решили, что он и есть Капитан? И не руководил он никем, никого не старался подмять под себя, никому не навязывал своего мнения (да и имел ли его вообще?). И все же был Капитаном. И нельзя было сказать, что в его ресторане царило особенное веселье, а все же там каждый мог высказать свою точку зрения на то или иное событие или человека (а у кого ее не было, мог послушать чужую), и получить от этого то крохотное удовольствие, какое только могла принести жизнь в Стране.
В «Капитане», как обычно после Охоты, собралось много народу. Здесь были те, кто еще недавно развлекал людей своей музыкой и чьи имена не сходили с уст; и те, кто развлекался этой музыкой и только внимал своим кумирам. Казалось, население целого города забилось сюда, оставив охотникам только пустые улицы в назидание, и те ничего не могут сделать – хотя ни для кого не секрет, куда все делись.
Полусумрачное даже днем, низкопотолочное заведение, окутанное клубами дыма, пыли и чего-то, похожего на странный белый порошок, давило и расслабляло собравшихся одновременно. Света было мало. Опять обсуждали музыку, что звучала вчера на городских улицах.
–Мне вчера понравилась твоя песня, – как обычно, никого не приветствуя, походя бросил Капитан, завидев Его за барной стойкой.
–Какая?
–Не помню. Все. Мне вообще нравится твоя музыка, я это вчера понял.
–Спасибо, но мне она представляется вполне обычной, ничем от других не отличающейся.
–А ей и не надо отличаться. Вообще никакая музыка не отличается от другой. Никакие произведения даже самых великих композиторов не отличаются от творений их собратьев по перу, и все нотные станы похожи друг на друга как родные братья. И все же одни произведения, подчас очень талантливые и яркие, меркнут, а другие, на первый взгляд, весьма посредственные, живут и не умирают!
–Не хочешь ли ты сказать, Капитан, что моя музыка бессмертна? – то ли в шутку, то ли всерьез переспросил Он. – И только потому, что она уступает музыке великих?
–Если ты не заметил, я вообще никогда никому ничего не хочу сказать, кроме бессвязного набора букв, в данную конкретную минуту волнующего, в той или иной степени, мою душу. Иногда чем меньше смысла, тем лучше. «Что вижу, то пою». Услышал вчера твою музыку – сказал тебе. Может, завтра я ее забуду, и не такая уж она талантливая, как показалось. А, однако же, сегодня почему-то помню…
–Тебе легко говорить, – грустно протянул Он. – А что, если я не могу остановиться искать смысл?
–Тем хуже для тебя. Выпей лучше.
Капитан протянул Ему кружку чего-то огненно-крепкого и вонючего – такого, что Он и не пил до этой минуты, пожалуй, никогда в жизни. Стоило пригубить из грязного сосуда, как хмель ударил в голову, сразу стало жарко, голова противно закружилась, кости стало ломить. Спать не хотелось, но какая-то слабость сразу обуяла Его – как будто уставший от беготни Охоты и общества нелюбимой организм резко расслабился, скорее даже, ослаб.
–Скажи, Капитан, а разве не потому охотники охотятся на нас, что мы ищем смыслы, а, если не находим, то сами их создаем?
Капитан в ответ расхохотался:
–Дело совершенно не в этом. Во-первых, они не хотят, чтобы мы развлекались, хотят только, чтобы работали. Естественное стремление государственной машины. А во-вторых, если завтра они перестанут нас преследовать, то и интерес к нам пропадет. И тогда люди будут искать интерес к чему-то новому, которое может оказаться для власти куда более разрушительным, чем милые и малопонятные песенки об утопической жизни, которая никогда и не наступит вовсе.
«А все-таки я был прав, подумав утром, что постепенный приход перемен иногда хуже, чем революция, потому что ее хоть кто-то может контролировать, а вот когда начинается хаос… А Капитан лукавил. Все смыслы он понимает!»
В этот момент Он увидел Брата. Тот, как всегда, сидел в компании своей новой девушки, которая была из другой страны, многого не понимала, многое было для нее в диковинку и потому радовало – даже то, что местных жителей раздражало. Слабость из кружки, протянутой Капитаном, уже овладела всем его телом. Идти к Брату было лень, он махнул рукой и позвал его, показав поднятую на вытянутой руке емкость. Брат подсел к нему. Про девушку говорить нет смысла – она всегда глупо улыбалась и следовала за Братом всюду.
–Как тебе наше вчерашнее представление? – еле ворочая языком, спросил Он.
–А Капитан что сказал?
–Ему понравилось.
–Значит, всем понравилось, – махнул рукой Брат. – Тут ведь от обратного – если тебе пришлось прятаться от Охоты, значит, всем все нравится.
Брат шутил, но Он не понимал иногда его шуток. Он хотел слышать от своего родственника какое-то одобрение, участие. Причем участие, которое в избытке проявляла к Нему Она, Ему не нравилось – потому только, что их ничего не связывало. Ну или почти ничего. А с Братом связь была кровная. Его слова были дороги даже для такого черствого человека, как Он. Однако, Брат на похвалы был скуп.
–Я забыл, – почесал лоб Брат, тоже порядком охмелевший от непонятного капитанского пойла, лившегося сегодня рекой, – я уже знакомил тебя со своей Девушкой?
–Да, уже раза три.
Она, как обычно, только смеялась в ответ.
–И как она тебе? В смысле, что скажешь?
–Это тоже спрашивал.
–И все же?
–Хорошая. Только, наверное, неприлично при ней это обсуждать.
–Пустое, – отмахнулся Брат, – она уже почти привыкла к нашим обычаям. Хотя некоторые, что привезла с собой, весьма чужды для нас. Например, никак не отучу ее готовить. Что делать с этим недостатком – ума не приложу. Как на такой жениться-то?
–Отвыкнет еще.
–Надеюсь.
Зазвонил телефон. Капитан пригласил Его к трубке.
–Это ты? – Он узнал Ее голос. Точно так же, как вчера, и даже почти в то же время.
–Он.
–Я думала, у тебя Дело. А ты в «Капитане». Любопытно.
–Что любопытного? – Он как будто немного разозлился. Она пыталась его контролировать, хотя Он не давал Ей повода. Или давал?
–Нет, ничего, – пробормотала Она. – Просто я соскучилась. Может, зайдешь?
–Может.
Он положил трубку и вдруг подумал, что больше не хочет здесь находиться. Здесь не было ничего из жизни, что он искал.
Потом, как и Капитан, ни с кем не попрощавшись, вышел на улицу. Город тонул во мраке, хотя был день. Сырость и вода по щиколотку буквально затапливали местные улицы, делая невозможным даже дыхание. Было холодно и темно, не то, что вчера. Времена года здесь менялись примерно раз в неделю, а также имели обыкновение смешиваться друг с другом – как бывает у людей, больных маниакально-депрессивным психозом. Еще вчера было лето, а сегодня уже нечто между ранней весной и осенью. Почему так и, главное, зачем все это – зачем меняются времена года, зачем завтра ему отправляться на Дело, зачем развлекать в свободное время людей, а потом бегать от охотников, ничего серьезного из себя не представляя, – Он не знал. Никто не знал, и никого это не тяготило. А Его тяготило.
От осознания тяжести в груди сковало ноги. Вышел и чуть не упал на крыльце – то ли алкоголь странный, то ли мысли, куда более странные косили Его. Что-то сегодня определенно Ему мешало. Решив не идти к Ней без повода (Охота кончилась), Он развернулся на дырявых каблуках и зашагал обратно к «Капитану».
Глава третья
Теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног.
Звездная пыль – на сапогах.
Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок.
Солнечный день – в ослепительных снах.
Цой, «Группа крови»
16 августа 2005 года, Химки, Московская область
Вдохновения не было. Алижан смотрел на раскидистый лес, вид на который открывался из окна его небольшого, но уютного дома, слушал звуки реки, пение птиц, но прежний душевный подъем все никак не приходил. То ли жара как знак прощания уходящего лета с людьми была тому виной, то ли старая, как мир, истина о том, что даже хорошее имеет обыкновение приедаться человеку и надоедать по прошествии какого-то времени.
Хотя об этом Алижан думал в последнюю очередь. Ни Санкт-Петербург, который он, по старому обыкновению, называл Ленинградом, ни Москва, не нравились ему так, как здешние подмосковные пейзажи, сочетающие в себе первозданную красоту лесов и полей и далекие отголоски столичной урбанизации. Долго он искал такое место, где будет ему спокойно и хорошо и, в то же время, цивилизация не будет очень уж далека. Раньше он жил в Ленинграде, но «северная столица» давно оттолкнула его своей сусальной провинциальностью. Он давно понял, что под напускным блеском столичных атрибутов скрывается простая русская деревня – темная и злобная. Потом ненадолго переехал в Москву – там все было слишком живо, он не поспевал за тамошним ритмом, скоростью отличавшимся от ленинградско-невского, чересчур размеренного, до медлительности. А когда поселился здесь, то понял – это навсегда. Никакой спешки, никаких отвлекающих от творчества факторов, никакой суеты. И в то же время – до суеты этой, если вдруг соскучишься или понадобится она тебе для чего-то, рукой подать. Но ему она была не нужна…
Вот уже почти 15 лет Алик Кабанбаев жил здесь и получал удовольствие от того, что видел. Удовольствие такое по силе своей, что чувствовал – грешно не то, чтобы не поделиться с людьми этим девственно-красивым чудом, а не оставить о нем какое-нибудь воспоминание для эфемерных (детей у Алижана не было) потомков в столь же красивой форме. И потому он рисовал. Рисовал много и разнообразно – не всегда пейзажи, иногда местные красоты подталкивали его к написанию полунаивных портретов каких-то странных, никогда в жизни не видимых персонажей. Иногда резал по дереву малопонятные, кубистские или сюрреалистические картинки. Но неизменно все вдохновение он черпал только в здешней природе, одного взгляда и дыхания на которую было достаточно, чтобы зарядиться энергией, как заряжается от сети аккумулятор.
Однако, последнее время вдохновение стало куда-то пропадать. То ли искать себя надо было в другом виде искусства (хотя ни художником, ни вообще деятелем культуры Алижан себя не считал), то ли приелось ему то, что он видел, то ли времена изменились настолько радикально и резко, что он и не заметил, как стал резонировать не только с городской цивилизацией, но и с местными отшибами. Да и не сказать особо, чтобы нуждался он в этом вдохновении как в воздухе, не причисляя себя к служителям муз. Но что-то в этом августе пропало в его общей картине мира, и этот факт стал его сильно угнетать – ведь теперь придется либо искать пропажу, либо заполнять образованную ею нишу чем-то новым. А возраст и состояние духа никак к этим поискам, оставшимся где-то в юности, не располагали…
Алижан снова и снова подходил к холсту, потом к верстаку с деревянным полотном. В голове, казалось, рождаются мысли о чем-то вроде бы красивом, но руки никак не желали им подчиняться и воплощать их в жизнь. Он вдруг подумал о себе: кто он? Живет тут вдали от цивилизации, Интернета, тусовок и прочих прелестей XXI века, перебивается кое-как никому не нужными картинами, резьбой по дереву да написанием музыкальных критических статей (тоже, скорее всего, никому не нужных) на заказ, публикуемых нерадивыми журналистами от своего имени. Иногда ходит на рыбалку. А в общем-то пустое место. Ни семьи, ни детей, ни флага, ни Родины. «Свободный художник… Думается, так они и выглядели. Вот только найти себя почти никому из них при жизни не удалось. А мне не удастся и после смерти…»
Был, правда, у него еще один источник вдохновения – группа «Кино». Нет, не песни – их он знал все наизусть, и они ему порядком надоели еще несколько лет назад. Но воспоминания о них и обо всем, что было связано со старым русским роком. Когда-то где-то по паре раз встретившись и «набухавшись» с Цоем, БГ, Кинчевым, он сохранил об этих людях и их творчестве теплые воспоминания, обращался к которым до сих пор время от времени, словно припадая к живительному источнику. Особенно в этом ряду, конечно, выделялся Цой. Напоминанием о встречах с ним до сих пор в углу комнаты висели какие-то старые подписанные им афиши, плакаты с их общим кумиром, Брюсом Ли, выцветшая и вытертая кожаная куртка и нунчаки. Когда-нибудь, думал Алижан, напишет он портрет Цоя или даже – в соответствии с пожеланиями «вечно живого» – вырежет его из дерева. Когда-нибудь. Не сегодня.
Устав от шатаний между холстом, верстаком и окном, он упал на диван и открыл банку пива. Оно, как назло, кончалось – сосед-таксист должен был привезти еще, но чего-то все никак не вез. Алижан подумал вдруг, что не поиском себя пугает его отсутствие вдохновения этими августовскими днями. Пугает его дурное предчувствие. Вот только предчувствие чего?..
От мыслей подобного рода отвлек звук автомобильного гудка с улицы – приехал сосед, таксист Женя Ясинский. У него был домик рядом с избушкой Алижана, и он, бывая в центре города намного чаще своего соседа, помогал последнему с доставкой продуктов, угля, питьевой воды. Рассчитывался он с таксистом деньгами, полученными от продажи своих статей и художественных работ. Хватало впритык, но хватало – во многом свободный художник и не нуждался, семьи-то у него не было. Как и у таксиста – жена бросила его лет 10 назад, и с тех пор он жил в здешней глуши один, замкнувшись и попивая в одиночку. Звал иногда соседа, и тот соглашался разделить с ним будни рыбака, состоящие из «клёва» и «неклёва», сопровождаемых обильными возлияниями.
Услышав сигнал, Алижан вышел на улицу.
–Принимай товар, – Женя вышел из машины и открыл багажник, затягиваясь сигаретой.
Алик вытащил на свет Божий несколько коробок с консервами и пивом, пару бутылок коньяка, два пакета с овощами, хлебом и еще какой-то ерундой и сложил все это возле калитки. Краем уха услышал, что из колонок в старом «жигуленке» льется песня Макаревича.