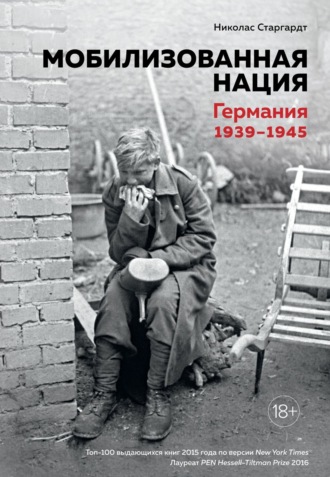
Полная версия
Мобилизованная нация. Германия 1939–1945
Система распределения основывалась на исследованиях в области питания. В 1937 г. объектом изучения выступали триста пятьдесят рабочих семей, в результате чего авторы вывели среднее необходимое потребление в 2750 калорий на человека ежедневно. В дальнейшем работа продолжилась, и под влиянием заинтересованных сторон картина претерпела изменения. Из Берлина зазвучали тревожные голоса о том, как бы нехватка протеина и жиров не вызвала бесплодие у девушек в подростковом и юношеском возрасте, что пошло бы во вред проводимой режимом политике поощрения рождаемости. Женщины воспользовались этим и заговорили о том, что, когда трудно прокормить имеющихся детей, нет смысла рожать новых. Глава Национал-социалистической народной благотворительности Эрих Хильгенфельдт настоял на введении программы «поддержки семьи» – выплат бедным семьям с целью помочь им выйти на должные нормы продовольственного потребления. На практике, однако, «поддержка семьи» отличалась изрядной скромностью, и задача ее состояла в том, чтобы не дать беднякам из немцев умереть с голоду, но при этом не нарушить «естественный порядок» меритократического социального отбора. То был механизм государственного распределения, нацеленный на обеспечение общественных потребностей, при этом никогда даже не пытавшийся выглядеть социалистическим или уравнительным[114].
Скоро немцы неизбежно осознали несправедливость системы. При положенных им 4200 калорий в день рабочие в промышленности, занятые на «очень тяжелом труде», получали по максимуму. Не подлежавшие призыву как «незаменимые», такие люди имели высокую квалификацию, и индустрия, прежде всего крупные оборонные заводы, не хотели их терять. Подобные фирмы и компании могли рассчитывать на содействие Германского трудового фронта и местного гауляйтера, поэтому без особого труда продвигали своих рабочих в «высшую лигу» потребителей. Так называемые белые воротнички из всевозможных бюро, торговых контор и тому подобных заведений не пользовались поддержкой, оказываемой работающим в военно-промышленном комплексе, и наряду со специалистами из среднего класса получали стандартную норму в 2400 калорий как «обычные потребители». Авторы исследований данного вопроса по заказу Германского трудового фронта еще в сентябре 1939 г. предупреждали, что карточная система поднимет уровень потребления у одной половины населения и снизит – у другой. Перераспределение ресурсов среди взрослых граждан произошло в том числе и от более старших к более молодым: сравнения данных по состоянию на декабрь 1937 г. и февраль 1942 г. в отношении 1774 лиц позволили установить, что работающие мужчины в возрасте 55–60 лет и женщины – 60–65 лет теряли вес, тогда как 20–30-летние мужчины и 20–35-летние женщины, напротив, набирали его. Материальное процветание молодых отражалось и в ослаблении контроля над ними со стороны социума и семьи[115].
Авторы другого труда пришли к поразительным выводам: наиболее сильная потеря веса среди 6500 работающих в промышленности приходилась на долю занятых на тяжелом или очень тяжелом труде, то есть на представителей групп с правом на самое высокое снабжение. По всей видимости, мужчины отдавали часть пайка семьям. Чтобы изменить положение, власти требовали от управляющих заводами и фабриками устройства заводских столовых. Однако обед в столовой тоже стоил штампа в карточке, которая в противном случае позволяла приобрести нечто важное для семьи, поэтому толпы желающих в такие столовые не повалили. Популярностью пользовались только так называемые бутерброды Германа Геринга, раздававшиеся в процессе особенно продолжительных смен, и то по причине их статуса добавки к рациону. К концу 1941 г. в Министерстве продовольствия заподозрили, что со многих шахт подают завышенные данные об отработанных персоналом часах для обоснования их лучшего обеспечения[116].
4 сентября 1939 г. власти издали драконовский Военный декрет в сфере экономики, в соответствии с которым вводилась принудительная работа по воскресеньям, замораживались зарплаты, отменялась доплата за переработку и повышались налоги. Резко увеличилось количество сотрудников полиции на заводах и фабриках. Даже до войны государственному руководству приходилось иметь дело с недовольством представителей рабочего класса в связи с продолжительным рабочим днем. Бум в области производства вооружений создал нехватку рабочих рук, оказывая дополнительную нагрузку на имеющиеся человеческие ресурсы и изматывая их. Добыча угля в январе 1939 г. снизилась, что привело к перебоям в его поступлении на железные дороги, а также к потребителям для отопления их жилищ. В то время как нацистские соглядатаи на производстве и действия органов подавления сделали коллективные выступления невозможными, трудовая дисциплина в сердце тяжелой индустрии – в Рурском бассейне – летом 1939 г. описывалась как «катастрофическая». Рабочие ответили на новый Военный декрет интенсификацией сопротивления снизу, уже зарекомендовавшего себя как действенная мера до войны. Число прогулов – особенно по понедельникам – росло наряду с уровнем заболеваемости и отказами работать сверхурочно. Руководство СД принялось убеждать политическое руководство ослабить напор, и правительство прислушалось к доводам разума, отменив сокращение зарплат и восстановив доплату за сверхурочные и работу по воскресеньям[117].
В ноябре 1939 г. пришла ранняя и суровая зима, и железнодорожные перевозки затормозились. Работавшие с перенапряжением из-за необходимости обеспечивать нужды военной кампании в Польше, вывозить штатских лиц из Саара и поддерживать военную экономику, германские железные дороги теперь остро нуждались в подвижном составе для транспортировки продукции из угледобывающих районов Рура. В тот месяц обстоятельства вынудили Угольный синдикат Рейна и Вестфалии заложить в запасники 1,2 миллиона тонн угля. Нехватка его оказалась настолько серьезной, что даже в городках поблизости от Рура фирмам пришлось сокращать продолжительность работы и отпускать работников на рождественские праздники досрочно. Тут и там в Германии люди носили дома вещи для выхода на улицу. Школы – только открывшиеся после того, как послужили сборными пунктами для военных, местами размещения эвакуированных и даже складами урожая, – тут же снова закрылись из-за отсутствия отопления. В некоторых городах около угольных складов собирались толпы, и полиция буквально охраняла грузовики с целью не допустить их захвата. В начале января замерзли каналы, и баржи лишились способности привозить уголь в Берлин. Когда температура упала до –15 °C, американский журналист Уильям Ширер не скрывал жалости к «людям, которые тащат мешок угля домой в детской коляске или на плечах… Все ворчат. Ничего не снижает моральный дух столь сильно, как длительные холода»[118].
По мере углубления кризиса местные должностные лица начали самовольно отбирать для нужд местного населения уголь с проходивших через их территорию поездов. Бургомистр Глогау, например, распорядился разгружать вагоны, у которых «перегреваются оси». Взбешенный подобным эгоизмом, заместитель фюрера Рудольф Гесс вынужденно напоминал партийным функционерам на местах, что система распределения не сможет работать, если в каких-то районах страны люди не будут нести своей тяжкой ноши. И надо сказать, что в большинстве своем они ее несли. В известной степени из-за мер, введенных в предвоенные годы в целях проведения перевооружения, государственный контроль над ценами и распределение действовали на гораздо более серьезном уровне, чем в прошлую войну. В последующие годы карточная система – особенно распределение продовольствия – регулярно подвергалась критике за чрезмерную централизацию, косность и отсутствие учета местных обстоятельств, не говоря уже об областных традициях кулинарии, однако само по себе порицание говорит о своеобразной победе. Несмотря на кризисы, местный партикуляризм не сломал систему рационирования; она прожила по меньшей мере до 1945 г.[119].
В последующие зимы населению предстояло познать еще большую нехватку угля и «угольные каникулы» для школьников, но, по мере того как люди привыкали к невзгодам, это уже не имело такого большого значения. Первый угольный кризис новой войны вновь пробудил в обществе коллективные воспоминания и переживания прошлой, наводя как на государственные власти, так и на народ в целом страх перед повторением истории. В старом сердце немецкого трудового движения, в городах вроде Дортмунда, Дюссельдорфа, Дрездена, Билефельда и Плауэна, вновь начали появляться коммунистические лозунги вроде «Рот Фронт» и «Долой Гитлера». Люди неожиданно находили на своих рабочих местах или в почтовых ящиках марксистские листовки – некоторые из них из-за пакта со Сталиным отличались троцкистской направленностью. Из Вены и Линца доносили о возобновлении пропаганды за независимость Австрии и реставрацию Габсбургов. Однако политическое недовольство выплеснулось на улицы не в Германии или Австрии, а в Праге, где 28 октября 1939 г. состоялась крупная демонстрация прямо перед резиденцией гестапо. Во многих других уголках протектората Богемия и Моравия студенты и интеллектуалы устраивали тихие протесты и бдения. На них обрушился режим, не собиравшийся терпеть беспорядков среди ненемецких подданных. Если говорить о «соплеменниках» – германских и австрийских немцах, тут дело ограничилось саркастическими шутками, рисунками и надписями, но не вылилось в политические акции. Даже эмигранты-социалисты, надеявшиеся на революцию на протяжении предыдущих шести лет нацистской диктатуры, на исходе октября 1939 г. вынужденно признавали тщетность перспектив восстания: «Только если разразится голод, если он измотает их психику и, сверх всего прочего, если западные державы добьются успехов на западе и займут значительные территории Германии, лишь тогда может прийти время и начнет зреть революция»[120].
Помня о прецеденте прошлой войны, полиция и органы социального обеспечения получили особые указания по реагированию на обострение подростковой преступности. К первым числам ноября 1939 г. СД уже уверенно называла «очевидно, наибольшей проблемой» для законности и порядка в Германии такое явление, как «трудные подростки». Молодые люди обоих полов собирались во вновь открытых танцевальных залах. В маленьких городках и в сельской местности они напивались, курили табак, резались в карты, совершенно никого и ничего не стесняясь. В Кёльне «все больше и больше молодых особей женского пола» собирались внутри и около центрального железнодорожного вокзала с целью повстречаться с солдатами «в такой манере, которая не оставляла сомнений в их намерениях… Из десяти застигнутых в обществе солдат девиц, ни одна из которых не состояла на учете в отделе полиции по борьбе с проституцией, пять страдали венерическими заболеваниями»[121].
Первыми признаками тревоги по поводу «трудновоспитуемых подростков» для полиции, местных советов по делам молодежи и социальных работников стали, скорее всего, праздношатающиеся юнцы, собиравшиеся в стайки на перекрестках улиц. По отношению к девушкам участие в таких сборищах автоматически подразумевало неразборчивость в связях, занятие проституцией и венерические заболевания; в случае парней – воровство и неизбежное совершение «бытовых» преступлений. Нельзя назвать чисто нацистскими подобные весьма живучие – и гендерно-дифференцированные – взгляды на «преждевременное половое созревание» девиц определенного возраста и воровство среди мальчиков-подростков, раскатывавших на украденных велосипедах. Точно такие же стереотипы в поведении «трудных подростков» бытовали в Северной Америке, Западной Европе и Австралии со второй половины XIX столетия до 1950-х гг. Взрослые повсюду сходились во мнении, что ради спасения «трудных» детей и необходимости оградить общество в целом – не дать ему погрязнуть в порочном круге безнравственности – следует помещать их в соответствующие заведения[122].
Несмотря на введение в военное время ограничений на социальные траты, число детей и подростков, отправлявшихся в исправительные дома, неизменно возрастало и к 1941 г. достигло ста тысяч человек, то есть, по всей видимости, полной вместимости, по причине чего не все «трудновоспитуемые» молодые люди попадали в соответствующие институты. Кого-то туда забирали, а кого-то нет, что походило на лотерею, хотя основной упор делался на традиционную клиентуру социальных чиновников – на детей городской бедноты. Большинство из них никаких преступлений не совершили; их посылали «исправляться» в «превентивных» целях или попросту потому, что видели в них угрозу обществу[123].
Бывший бенедиктинский монастырь в Брайтенау можно назвать одной из самых суровых исправительных колоний Гессена. Расположенный на холмах в излучине Фульды, комплекс зданий в стиле барокко со скатными крышами и закрытым внутренним двором уже одним своим видом заставляет сердце трепетать перед неумолимостью судьбы. Туда направляли детей и подростков, сбежавших из других, более открытых институтов. По прибытии малолетние колонисты проходили через рутину, обычную для взрослых узников и заключенных трудовых лагерей, которые обитали тут же: уличные попрошайки, бродяги, безработные и даже преступники, которых вместо тюремного срока помещали в Брайтенау для «перевоспитания», приучая к нравственному образу жизни, дисциплине и тяжелому труду, прежде чем счесть достойными возвращения в лоно «народной общности». Все имущество и одежда у детей и подростков отбирались, а взамен выдавалась грубая коричневато-серая роба. Рабочий день у всех без исключения длился по меньшей мере одиннадцать или двенадцать часов. За опоздания на работу, побеги и другие нарушения обитатели лагеря наказывались – их избивали, что официально запрещалось, или даже, более того, заключали в карцер, или произвольно продлевали срок содержания, что официально разрешалось[124].
Среди обитателей исправительного дома находились несколько девушек, которые сами побывали жертвами сексуального насилия. 14-летний Рональд и его 13-летняя сестра Ингеборг поступили в лагерь для «коррекции воспитания» после того, как стало очевидно, что брат с друзьями принуждали ее к сожительству с ними на протяжении полутора лет. Как значилось в решении о направлении их на «исправление», «Рональд и Ингеборг уже в значительной мере трудновоспитуемые. Отец в вооруженных силах, мать вынуждена работать» и не может уделять должного внимания детям. Словом, «невозможно бороться с моральным разложением детей в родительском доме, а посему надлежит провести корректирующее воспитание»[125].
15-летнюю Анни Н. Отправили в Брайтенау после произведения ею на свет незаконнорожденного ребенка в июле 1940 г. Она сообщила женщине, местному социальному работнику, как отчим пришел к ней в постель посреди ночи и силой взял ее, пока мать спала в той же комнате. Мужчины-чиновники, разбиравшие ее дело, девушке не поверили, и в Управлении по делам молодежи вынесли вердикт: «Она предоставлена сама себе, лжет и ведет распутный образ жизни»[126].
Случай Анни не просто типичный, а очень типичный: ее требовалось забрать из школы и спасти от улицы. Речь шла не о помощи собственно жертвам развратных действий, но о защите им подобных от вовлечения в такой же «порочный» круг. Нацистская политика проводилась в соответствии со сложившимися и широко распространенными взглядами. Религиозные консерваторы и либеральные реформаторы, юристы и психологи старательно не желали принимать во внимание свидетельства детей, когда речь шла о сексуальных действиях в отношении их, делая виноватым «испорченного» ребенка.
В феврале 1942 г. начальник Брайтенау советовал Управлению по делам молодежи в Апольде не спешить с использованием Анни Н. на работах за пределами исправительного учреждения: «Обычно с такими девицами требуется срок по меньшей мере в один год, чтобы вселить страх перед возвращением сюда, ибо только это [страх] может сделать ее ценным членом народной общности». 1 июня 1942 г. Анни скончалась от туберкулеза. И не одна она. Вальтрауд Пфайль умерла в течение месяца после повторной отправки в Брайтенау из-за попытки сбежать оттуда в Кассель летом 1942 г. Несколько месяцев спустя Рут Фельсманн погибла после двухнедельного срока в карцере. В августе 1944 г. Лизелотта Шмиц, как установили врачи в больнице Мельзунгена, похудела с 62 до 38 кг. Как и Анни, она подхватила в Брайтенау туберкулез и вскоре скончалась. Факты смерти девушек в столь юном возрасте из-за жестокого обращения с ними в лагере свидетельствуют об эрозии ведомственного надзора за применением дисциплинарных мер, что вполне характерно для нацистского государства. Сколько бы германское правительство ни беспокоилось о разлагающем воздействии нехватки продовольствия на духовный настрой гражданских лиц в Германии, война положила конец любым действенным ограничениям в отношении выдернутой из «народной общности» молодежи, которую обрекали на голод и смерть от недоедания в стенах закрытых исправительных учреждений[127].
Выпускали подвергшихся воспитательному исправлению из подобных лагерей не вдруг и не быстро, поначалу отправляя их на испытательные работы – как правило, в ближайших крестьянских хозяйствах. Исправление шло под лозунгами тяжелого труда, прилежного поведения и послушания. При возникновении спора с фермерами или их женами работавшим у них детям и подросткам могли тут же напомнить о близости исправительного дома и верных шансах вернуться туда. Любовные интрижки девушек с солдатами вели к обследованиям на венерические заболевания; если же парни забывали, допустим, задать корм коровам после обеда в воскресенье, то это уже официально считалось саботажем и вредительством во время войны. Клеймо исправительного дома оставалось у подростков словно на лбу. Отправленная на попечение в такое заведение в возрасте 12 лет, Лизелотта К. шесть лет спустя пыталась оправдаться перед матерью, которую едва знала:
«Я была ребенком в то время и оставила тебя, но сейчас я уже выросла, и ты не знаешь, что я за человек… Забудь обо всем, что я тебе причинила. Я на все готова ради тебя. В этом письме обещаю тебе, что изменю свою жизнь из-за любви к тебе»[128].
Изолированная от общества и вполне оправданно опасавшаяся, что то самое общество держит сторону экспертов и управленцев, Лизелотта вовсе не испытывала уверенности, что общее презрение социума ограничивается лишь ее семьей. Для девушек вроде нее путь обратно в «народную общность» лежал через прилежание, воздержание и движение по четко очерченной линии. Это служило напоминанием другим – принадлежность к «народной общности» нужно еще заслужить.
По всей Германии дети неожиданно почувствовали куда больше свободы, чем прежде, и взрослые стали просить ответственных подростков приглядывать за младшими братишками и сестренками. Мужчин призывали в солдаты, а женщины оказывались как бы матерями-одиночками: им приходилось следить за детьми, которые то и дело оставались дома из-за закрытия школ, стоять в очередях за дефицитными товарами и ждать в приемных местных правительственных органов. В большинстве семей экономическое положение все чаще заставляло женщин устраиваться на работу. Иные становились у руля фамильных дел, приходили в школьные классы заменять ушедших в армию учителей-мужчин. Женщины из рабочего класса шли трудиться на военные заводы, и неожиданно стало не хватать людей в традиционных и плохо оплачиваемых отраслях экономики с типично женским персоналом, таких как аграрный сектор и помощь по ведению домашнего хозяйства[129].
Отсутствовавшие дома отцы не могли не ощущать, как уменьшается вдалеке от дома их значение всевластных глав семейств. Не прошло и полумесяца с вторжения в Польшу, как столяр-краснодеревщик из Тюрингии Фриц Пробст наставлял сына-подростка Карла Хайнца: «Выполнять свои обязанности как немецкого мальчика тоже есть важный труд. Работай и помогай, где возможно, и не думай теперь об играх. Помни о наших солдатах, стоящих перед лицом противника… Чтобы потом и ты мог сказать: “Я внес свой вклад в спасение сегодняшней Германии от разрушения”»[130]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Переосмысление последней фазы войны: Kershaw, The End; Geyer, ‘Endkampf 1918 and 1945’ // Lüdtke and Weisbrod (eds.). No Man’s Land of Violence, 35–67; Bessel, ‘The shock of violence’ in ibid., No Man’s Land of Violence, 69–99, and Bessel, Germany in 1945.
2
О бомбежках см.: Groehler, Bombenkrieg gegen Deutschland; Friedrich, Der Brand; об изнасилованиях: Sander and Johr (eds.). Befreier und Befreite; Beevor, Berlin; Jacobs, Freiwild; опыт и переживания женщин во время войны: Dörr, ‘Wer die Zeit nicht miterlebt hat…’ 1–3; бегство: Grass, Im Krebsgang; e. g. Schön, Pommern auf der Flucht 1945; беседы с немецкими детьми: Lorenz, Kriegskinder; Bode, Die vergessene Generation; Schulz et al., Söhne ohne Väter; критические обсуждения: Kettenacker (ed.). Ein Volk von Opfern?; Wierling, ‘“Kriegskinder” // Seegers and Reulecke (eds.). Die ‘Generation der Kriegskinder’, 141–155; Stargardt, Witnesses of War: introduction; Niven (ed.). Germans as Victims; Fritzsche, ‘Volkstümliche Erinnerung’ // Jarausch and Sabrow (eds.). Verletztes Gedächtnis, 75–97.
3
Joel, The Dresden Firebombing; Niven, Germans as Victims //troduction; о 1950-х гг.: Moeller, War Stories; Schissler (ed.). The Miracle Years; Gassert and Steinweis (eds.). Coping with the Nazi Past; 1995 Wehrmacht exhibition and debate, Heer and Naumann (eds.). Vernichtungskrieg; Hartmann et al., Verbrechen der Wehrmacht; историческое исследование: Streit, Keine Kameraden (1978); Römer, Der Kommissarbefehl (2008).
4
Hauschild-Thiessen (ed.). Die Hamburger Katastrophe vom Sommer 1943, 230: Lothar de la Camp, циркулярное письмо, 28 July 1943; Kulka and Jäckel (eds.). Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten, 3693, SD Außenstelle Schweinfurt, o.D. [1944] and 3661, NSDAP Kreisschulungsamt Rothenburg/T, 22 Oct. 1943; Stargardt, ‘Speaking in public about the murder of the Jews’ // Wiese and Betts (eds.). Years of Persecution, 133–155.
5
Kershaw, ‘German popular opinion’ // Paucker (ed.). Die Juden im nationalsozialistischen Deutschland, 365–386; Bankier, The Germans and the Final Solution; Himmler, Die Geheimreden, 171: речь в Познани, 6 Oct. 1943; Confino, Foundational Pasts.
6
Orlowski and Schneider (eds.). ‘Erschießen will ich nicht!’, 247: 18 Nov. 1943.
7
Ibid., 338: 17 Mar. 1945.
8
MadR, 5571, 5578–9 and 5583: 5 and 9 Aug. 1943; Stargardt, ‘Beyond “Consent” or “Terror”‘, 190–204.
9
Kershaw, ‘Hitler Myth’; Kershaw, Hitler, I–II; Wilhelm II, ‘An das deutsche Volk’, 6 Aug. 1914 // Der Krieg in amtlichen Depeschen 1914/1915, 17–18; Verhey, The Spirit of 1914; Reimann, Der grosse Krieg der Sprachen.
10
Наиболее важный вклад в эту интерпретацию в целом: Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen; Martin Broszat, ‘Einleitung’ // Broszat, Henke and Woller (eds.). Von Stalingrad zur Währungsreform; Joachim Szodrzynski, ‘Die „Heimatfront“‘ // Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (ed.). Hamburg im ‘Dritten Reich 633–885; из последних работ, Schneider // der Kriegsgesellschaft, 802–834. По смертной казни, Evans, Rituals of Retribution, 689–696.
11
Kater, The Nazi Party; Benz (ed.). Wie wurde man Parteigenosse?; Nolzen, ‘Die NSDAP’, 99–111.
12
Peukert //side Nazi Germany; Gellately, Backing Hitler; Wachsmann, Hitler’s Prisons; Caplan and Wachsmann (eds.). Concentration Camps; Evans, The Third Reich in Power, chapter 1.
13
От нем. Gau (область) и Leiter (руководитель); глава областной партийной организации в Третьем рейхе. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.
14
Oswald, Fußball-Volksgemeinschaft, 282–285; Havemann, Fußball unterm Hakenkreuz.






