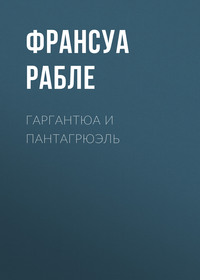полная версия
полная версияГаргантюа и Пантагрюэль
«Значит, – заметили его товарищи, – у тебя божья нога». Как будто некое божество скрывалось в его гнойной, покрытой струпьями ноге!
– Когда вы будете рассказывать нам такие басни, – сказал Пантагрюэль, – не забывайте приносить с собою таз. Меня чуть было не вырвало. Произносить святое имя божье, говоря о таких отвратительных, грязных предметах! Фу! Фу-фу! Если ваше монашество так злоупотребляет словами, так и оставляйте их, по крайней мере, у себя: не выносите из монастырей.
– Но и врачи, – возразил Эпистемон, – признают известного рода причастность божества к некоторым заболеваниям. Вот и Нерон хвалил грибы и, по греческой поговорке, называл их пищей богов, – потому что ими он отравил своего предшественника Клавдия, императора римского.
– Мне кажется, – сказал Панург, – что этот портрет не походит на наших последних пап, потому что я их видел без омофора, но со шлемом на голове и с персидской тиарой; и в то время как во всем христианском мире царили мир и спокойствие, они одни вели жестокую и вероломную войну.
– Это, – сказал Гоменац, – была война против непокорных, бунтарей, еретиков, отчаянных протестантов, не повиновавшихся его святейшеству, сему благому богу на земле. Такая война не только дозволительна и разрешена, но и прямо предписывается священными декреталиями. И папа должен немедленно предавать огню и мечу всех императоров, королей, герцогов, князей, республики, если те хоть на йоту отступят от его приказаний; должен лишить их имущества, отнять у них королевство, отправить их в изгнание, предать анафеме и уничтожить их не только телесно, вместе с детьми и прочими родственниками, но и души их осудить на ввержение в самую раскаленную из адских печей.
– Здесь, – сказал Панург, – клянусь всеми чертями, здесь отнюдь не еретики, не то что Раминагробис или там некоторые немцы да англичане. Вы все – христиане на подбор.
– Поистине так, – согласился Гоменац, – поэтому мы все и будем спасены. Ну, а теперь возьмем святой воды, и затем будем обедать.
ГЛАВА LI. Беседа во славу декреталий во время обеда
И вот заметьте, гуляки, что, пока Гоменац служил сухую обедню, трое церковных старост с большими блюдами в руках прогуливались посреди народа, громко взывая:
– Не забудьте счастливцев, которые видели его в лицо!
При выходе из храма они подали Гоменацу блюда, наполненные папиманской монетой. Гоменац сказал нам, что это был сбор на угощение и что из этих даяний часть пойдет на то, чтобы хорошо выпить, другая – чтобы хорошо поесть, согласно чудесному смыслу одной глоссы, скрытой в каком-то уголке священных декреталий. Это и было сделано в прекрасном кабачке, похожем на кабачок Гильо в Амьене. Вы можете поверить, что кушаний было весьма много, и выпивка изобильна.
За обедом я отметил две достопамятные вещи. Первая – что всякое подаваемое нам мясо, без исключения, – будь это козуля, каплун, свинья (которых так много в Папимании) или голуби, кролики, зайцы, индейка и пр., и пр., – все это было фаршировано бездной премудрости. А во-вторых – что все кушанья подавали хорошенькие местные девушки-невесты, такие, уверяю вас, хорошенькие, белокуренькие, нежненькие, грациозные. Одеты они были в длинные белые свободные ряски с двойным поясом; ходили с непокрытой головой, с маленькими бантиками и лентами лилового шелка в волосах, усеянных розами, гвоздикой, майораном, анисом, флер-д’оранжем и другими ароматными цветами. Все они каждый раз, как приближались к нам, предлагали нам вина, делая глубокие заученные реверансы.
Все присутствующие охотно смотрели на них. Брат Жан поглядывал на них сбоку, как пес, утащивший крылышко птицы. Когда унесли первое блюдо, девушки мелодично пропели эпод во хвалу святейших декреталий.
Когда подали второе блюдо, Гоменац радостно и весело обратился к одному из стольников с такими словами:
– Посвети сюда, духовный отче![262]
При этих словах одна из девушек тотчас же подала ему большой кубок с вином «экстравагантным»[263].
Он взял кубок в руку и с глубоким вздохом сказал Пантагрюэлю:
– Милостивый государь, и вы, любезные мои друзья! Пью за всех вас от всего сердца! Добро, добро пожаловать!
Выпив и возвращая кубок миленькой девушке, он громко и выразительно воскликнул:
– О, божественные декреталии, благодаря вам вкусное это вино так вкусно!
– Да, – сказал Панург, – вино не из худших в корзине.
ГЛАВА LІI. Продолжение беседы о чудесах, совершенных декреталиями
– Вот, – сказал Панург, – золотые слова. Но я верю им сколь можно меньше. Потому что в Пуату у шотландского доктора Декрегалипотенса[264] мне довелось однажды прочесть главу из декреталий. Забери меня дьявол, если от этого чтения у меня не сделался такой запор, что дня четыре-пять я почти совсем не ходил, – только чуть-чуть и прежестко. Знаете как? Точь-в-точь так, как в поэме Катулла говорится про Фурия, его соседа.
За целый год ты, друг, раз десять облегчался и смело в руку брать свое… решался.Твой не казался перст замокшим никогда мне:Не жестче ль был твой… чем боб и даже камни?– Ха-ха-ха! – воскликнул Гоменац. – Друг мой! Надо полагать, вы были запятнаны в то время каким-нибудь смертным грехом!
– Было бы лучше, – сказал Пантагрюэль, – если бы благодаря декреталиям дурное вино становилось хорошим!..
Гоменац продолжал:
– О серафическая шестая декреталия! Столь необходимая для спасения нас, бедных людей!
Гоменац воздает хвалу разным частям декреталий, утверждая, что среди людей наступит благодать, когда, вместо всяких других занятий, они будут заниматься лишь чтением декреталий, внедряя их в полости мозга, в лабиринты артерий и пр. Эпистемон не вынес этого, встал и заявил Панургу, что «фарш» ему расстроил кишечник, и что он удержаться не может. А Гоменац продолжал воспевать благодать, которая наступит в мире при условии полной и безусловной отдачи его во власть декреталий. Всякие войны, грабежи, разбои прекратятся; из убийств будет иметь место лишь убиение еретиков и проклятых бунтарей… Стоит прочитать из декреталий только небольшой параграф, примечание под строкой, как воспламеняется в сердце очаг божественной любви и милосердия к ближним (кроме еретиков).
– Мне однажды, – сказал брат Жан, – в Севильё случилось подтереться листочком одной из злостных клементин, которые Жан Гимар, наш сборщик, выбросил на монастырский двор. Пусть меня заберут черти, если у меня не появился такой геморрой с шишками, что бедный мой волосатый зад пришел в полную негодность.
– О! – сказал Гоменац. – Это была, очевидно, божья кара, возмездие за грех, который вы совершили, испачкав такую священную книгу, которую вы должны были почитать и прикладываться к ней с благоговением.
– Жан Шуар, – сказал Понократ, – купил в Монпелье у монахов святого Олария прекрасные декреталии, написанные на атласном лэмбальском пергаменте большого формата, чтобы сделать из них велен для плющенья золота. И вот какое странное несчастье: ни одной штуки годной не вышло: все были дырявые и рваные.
– Наказание, – промолвил Гоменац, – возмездие божие!
– Франсуа Корню, аптекарь в Мансе, – сказал Эвдемон, – употребил том помятых экстравагант на пакеты. Я отрекусь от дьявола, если все, что в эти пакеты ни клали, сейчас же не сгнивало, не портилось и не становилось ядовитым: ладан, перец, корица, гвоздика, шафран, воск, пряности, кассия, ревень, тамаринд, – словом, вообще все: лекарства, порошки и зерна.
– Возмездие, – сказал Гоменац, – и наказание господне. Тратить столь святые письмена для мирской суеты!
– В Париже, – сказал Карпалим, – некий Груанье, портной, употребил часть старых клементин для патронов и выкроек. И – странный случай – все одежды, скроенные по таким патронам и по таким выкройкам, сейчас же портились и рвались: платья, мантии, плащи, юбки, безрукавки, колеты, камзолы, куртки, кофты. Груанье, думая скроить плащ, выкраивал гульфик. Вместо безрукавки шил шляпу с широкими полями. Под видом куртки выкраивал омофор. Взял выкройку камзола – а вышло в роде кастрюли. Его подмастерья стали шить по этой выкройке, вырезали дно – и вышла – ни дать ни взять – сковорода для каштанов. Кроил воротник, выходил сапог. Кроил фижмы, выходил капюшон. Думал сшить плащ, а выходил швейцарский тамбурин… До того дошло дело, что бедняга должен был по суду уплатить за материю всем своим заказчикам, – и сейчас он гол как сокол.
– Наказание, – сказал Гоменац, – и божеское возмездие!
– В Каюзаке, – сказал Гимнаст, – как-то состязались в стрельбе в цель господа д’Эстиссак и виконт де-Лозен. Пероту при этом разрезал пол-тома декреталий на хорошей канонической бумаге и из листов вырезал белые части для мишени. Так вот, душу свою про заклад отдам и продам всем чертям, если только кто-нибудь из местных стрелков попал в цель хоть раз (а ведь они – самые превосходные стрелки во всей Гиени!). Все выстрелы были мимо. Так и остался девственно-белым святейший картон, незапятнанным и целомудренным. Также Сансорнен старший, которому были поручены на хранение заклады, клялся нам золотыми фигами (своей великой клятвой), что он совершенно отчетливо, ясно видел, как стрела Каркелена входила прямо в черную точку посредине белого поля – и вот за мгновение до того, как вонзиться, отскочила в сторону как целый туаз, к самой пекарне.
– Чудо! – воскликнул Гоменац. – Чудо! Чудо! Духовный отче, посвети! Пью за всех присутствующих! Вы представляетесь мне истинными христианами!
При этих словах девушки прыснули со смеху. Брат Жан фыркал кончиком носа, будто собираясь заржать по-лошадиному.
– Мне кажется, – сказал Пантагрюэль, – что в такую мишень можно стрелять с большей безопасностью, чем некогда в самого Диогена.
– Что? – спросил Гоменац. – Как? Разве он был декреталистом?
– Ну вот, теперь все в порядке! – сказал Эпистемон, возвратившийся после того, как облегчился.
– Диоген, – продолжал Пантагрюэль, – однажды, желая развлечься, посетил как-то лучников, которые стреляли в цель. Один из них был до того неловок, неискусен и неметок, что, когда приходила его очередь стрелять, все зрители отходили в сторону, боясь, как бы он их не ранил. Диоген, увидя, что после одного столь кривого выстрела стрела упала футов на двадцать в сторону от мишени, – при втором его выстреле, когда все отбежали, кто в одну сторону, кто в другую, – наоборот, подошел к самой цели и встал вплотную к ней, утверждая, что это место – самое надежное, что стрелок попадет скорее куда угодно, чем в мишень, и только мишень вне опасности от стрел.
– Один паж, – сказал Гимнаст, – господина д’Эстиссака, по имени Шамульяк, заметил колдовство. Пероту, по его совету, заменил мишень бумагами из процесса Пульяка. Тогда обе стороны отлично стали попадать.
– В Ланде руссе, – сказал Ризотом, – на свадьбе Жана Делифа устроили пышный свадебный пир, как это в обычае в этом краю. После ужина были разыграны несколько фарсов, комедий, всяких забавных шуток. Проплясали мавританские танцы с колокольчиками и цимбалами; потом ввели масок и ряженых. Я со школьными товарищами – чтобы почтить праздник, как умели – утром достали себе лиловые и белые ливреи, сделали смешные бороды со множеством раковинок святого Михаила и скорлупок от улиток. А так как у нас не было ни листьев репейника, ни лопуха, ни бумаги, то из листков старой шестой книги декреталий, которая там была брошена, мы себе сделали личины с прорезами на месте глаз, носа и рта. И удивительное дело! Когда окончились наши ребяческие развлечения и мы сняли маски, мы показались друг другу безобразнее и гаже, чем дьяволята из «Страстей господних», что ставят в Дуэ: так наши лица были испорчены в тех местах, где к ним прикасались листы декреталий. У одних рябины, у других – короста, я кого – язва, у кого – краснуха, у кого вскочили чирьи. Словом сказать, из всех нас наименее пострадал тот, у кого выпали зубы.
– Чудо! – воскликнул Гоменац. – Чудо!
– Еще не время смеяться, – сказал Ризотом. – Две мои сестры Катерина и Ренэ, положили под эту шестую книгу, как под пресс (потому что она была покрыта толстыми планками), свои чепчики, манжеты и воротнички, только что выстиранные, набеленные и накрахмаленные. И вот, богом клянусь…
– Подождите, – сказал Гоменац, – какого бога разумеете вы?
– Бог один, – отвечал Ризотом.
– Ну да, – сказал Гоменац, – на небесах. А на земле разве нет другого?
– Прошу прощенья, – молвил Ризотом, – о нем-то я и не вспомнил. Итак, богом земным, папою, клянусь, что их воротнички, нагрудники и чепчики и все прочее белье стало чернее, чем мешок угольщика.
– Чудо! – закричал Гоменац. – Духовный отче, посвети и заметь эти прекрасные истории.
– Как это, – вставил брат Жан, – говорят:
Как декреты залетали,А монахи ездить стали —Нам с тех пор не повезло,И пошло по свету зло…– Понимаю вас, – сказал Гоменац. – Это все прибауточки новейших еретиков!
ГЛАВА LIII. Как силою святых декреталий золото из Франции тонким способом извлекается в Рим
В этой главе продолжается беседа. Эпистемон указывает, что с помощью некоторых глав декреталий Рим ежегодно вытягивает из Франции четыреста тысяч дукатов с лишком. «Только-то?» – заявил Гоменац. По его мнению – это немного, ибо «христианнейшая Франция – единственная кормилица римского двора». Гоменац ставит в особую заслугу декреталиям эту производящую деньги энергию. Нет другой такой могучей книги, даже из числа книг священного писания. Читающие декреталии – и «ни во что другое не верующие, ни о чем другом не думающие и не говорящие», кроме того, что есть в декреталиях, – добьются всеобщего уважения и преимущества перед всеми остальными. Из декреталистов надо избирать императоров, полководцев, администраторов. Декреталист «может обратить в святую веру турок, евреев, татар, московитов, мамелюков и саррабуитов (т.-е. развратных монахов)». Священные декреталии сделали святой апостольский римский престол грозою мира, так что все короли и императоры, и ныне и присно и во веки веков, коронуются Римом и повергаются во прах перед чудесною туфлею папы. Университеты обязаны привилегиями только декреталиям.
Тут Гоменац расхохотался и забрызгал слюной. Сняв свою засаленную шляпу с четырьмя прикрепленными к ней гульфиками, он передал ее одной из девушек, и та надела ее на голову, предварительно любовно приложившись к ней, – в восторге от того, что, значит, она первая выйдет замуж.
Глава кончается обращением Гоменаца с молитвой к земному богу – «декреталиарху». Он умоляет папу отдать приказ, чтобы в его епархии никогда не было недостатка в священных индульгенциях. После этого Гоменац стал бить себя в грудь, проливая горячие слезы, и целовать свои пальцы, сложив их крестом.
ГЛАВА LIV. Как Гоменац подарил Пантагрюэлю груши доброго христианина
Эпистемон, брат Жан и Панург при виде такой досадной катастрофы принялись, спрятавшись за салфетки, кричать:
– Мяу, мяу, мяу! – и делали в то же время вид, что они вытирают глаза, точно плачут. Девицы были прекрасно обучены и тотчас же подали всем кубки, полные клементинского вина, и в изобилии варенья; пир снова оживился. В конце обеда Гоменац раздал нам много больших и прекрасных груш, приговаривая:
– Вот, друзья, возьмите. Это особенные груши, таких не найдете в других местах. Не на всякой земле родится все. Только в одной Индии растет черное дерево. Из Сабеи идет хороший ладан. С острова Лемноса – глина для пилюль. И только на нашем острове родятся эти прекрасные груши. Если вы хотите, вы можете развести их и в вашем краю.
– А как вы называете эти груши? – спросил Пантагрюэль. – Они, кажется, хорошие, сочные. Если их сварить в кастрюльке, разрезав на четыре части и прибавив немного вина и сахара, – по-моему, получится очень здоровое кушанье как для больных, так и для здоровых.
– Не иначе, – отвечал Гоменац. – Мы – люди простые, как господу угодно. Мы называем фиги фигами, сливы – сливами, а груши – грушами.
– В самом деле, – сказал Пантагрюэль, – когда я вернусь домой (а если богу угодно, это будет скоро), я их разведу в своем саду в Турени, на берегу Луары, и они будут называться «грушами доброго христианина», ибо лучших христиан, чем эти добрые папиманы, я не видывал.
– Я считаю, что тоже было бы хорошо, – сказал брат Жан, – чтобы он нам подарил две-три тележки со своими девицами.
– А что с ними делать? – спросил Гоменац.
– Пустить им кровь, – сказал брат Жан, – между двух больших артерий. У нас будут детки, и умножится раса добрых христиан, которые в нашей стране не слишком хороши.
– Поистине, – сказал Гоменац, – этого мы не сделаем. Вы хотите их отдать на потеху ребятам, – я узнаю вас по вашему носу, даже если бы никогда вас не видел. Увы, увы! Хороший сын, нечего сказать! Неужели вы хотите погубить вашу душу? Наши декреталии это запрещают, и мне бы хотелось, чтобы вы их хорошенько узнали.
– Терпение, – сказал брат Жан. – Но «Si tu non vis dare, praesta quaesumus»[265]. Так стоит в требнике. И я не боюсь в этом отношении никакого бородача, будь он доктор трижды кристаллический, – я хочу сказать, декреталический.
Окончив обед, мы распрощались с Гоменацем и со всем добрым населением, поблагодарив их со всею учтивостью и в возмещение за все их добро обещав им, что по приезде в Рим будем так действовать перед святым отцом, что он вскорости лично захочет повидать их.
Затем мы вернулись на корабль. Пантагрюэль, по своей щедрости и в благодарность за то, что нам показали священное изображение папы, подарил Гоменацу девять кусков золотой фризовой парчи, чтобы из нее сделали занавес перед железным окном. Затем велел наполнить до краев кружку на украшение и устроение храма «двойными экю с волчком»[266]. А каждой из девушек, которые прислуживали за столом во время обеда, подарил по девятьсот четырнадцать золотых монет с изображением благовещения, чтобы они могли в должный срок выйти замуж.
ГЛАВА LV. Как Пантагрюэль в открытом море услышал разные оттаявшие слова
Отъехав в открытое море, мы пировали, закусывали, болтали, разговаривали, как вдруг Пантагрюэль поднялся из-за стола и стал озирать окрестность. Затем он сказал:
– Товарищи, вы что-нибудь слышите? Мне кажется, что я слышу, в воздухе разговаривают несколько человек, и, однако, я никого не вижу. Слушайте!..
По его приказанию мы стали внимательно слушать и втягивать ушами воздух, как устриц из раковин, не услышим ли голоса или какого-нибудь звука. Чтобы ничто не ускользнуло от слуха, некоторые из нас, по примеру императора Антонина, даже приложили свои ладони сзади ушей. Тем не менее мы заявляли, что никаких голосов не слышим.
Пантагрюэль продолжал утверждать, что слышит в воздухе различные голоса – и мужские и женские; тогда и нам показалось, что или мы слышим голоса, или у нас звенит в ушах. И чем больше вслушивались, тем больше различали голоса, и наконец начали разбирать целые слова. Это нас страшно напугало, и не без причины: ведь мы никого не видели, а слышали между тем столько разных голосов – мужских, женских, детских и даже конских; так что Панург закричал;
– Черт возьми, что за насмешка! Мы погибли! Бежим! Вокруг засада! Брат Жан! Где ты там, друг мой? Будь подле меня, умоляю тебя! Твой меч с тобою? Посмотри, как бы он не застрял в ножнах. Ты его наполовину не отчистил от ржавчины. Мы погибли!
«Послушайте – ей-богу, это палят из пушек. Бежим! Не на четвереньках, как Брут с войсками в сражении при Фарсале, нет! На парусах и на веслах. Бежим! На море мужество меня покидает. В погребе и в других местах у меня его больше чем достаточно. Бежим! Будем спасаться! Я говорю не от страха, потому что, кроме опасности, я ничего не боюсь. Я всегда так говорил, и так говорил и вольный стрелок из Беньолэ[267].
«Но не будем рисковать, чтобы нас не провели за нос[268]. Бежим! Поворачивай задом! Поверни руль! С… с… О, если б было богу угодно, чтобы я сейчас находился в Кенкенуа, – пусть бы мне хотя и не жениться никогда! Бежим! Куда нам до них! Ведь их десять против одного, уверяю вас. А кроме того, они у своих очагов, а мы страны не знаем. Они убьют нас. Бежим! Стыда никакого не будет! Демосфен говорит, что тот, кто бежит, опять будет сражаться! Так, по крайней мере, скроемся пока! Эй, вы, там, к румпелю, на булинь! Ой, смерть! Бежим, сто чертей! Бежим!»
Пантагрюэль, слыша шум, поднятый Панургом, сказал:
– Кто это там собирается бежать? Сперва посмотрим, что это за люди. А вдруг они – наши. Однако я все еще никого не различаю, а вижу я на сто миль кругом. Но послушайте. Я читал, что некий философ, по имени Петроний, был того мнения, что есть несколько миров, касающихся друг друга в виде равностороннего треугольника. А в центре, – говорил он, – стоит обиталище истины, где живут слова, идеи и образы прошлого и будущего. А вокруг них расположен этот век[269]. В некоторые годы, через долгие промежутки, часть этих слов и идей падает на людей – как простуда, или как пала когда-то роса на Гедеоново руно[270]. Другая же часть остается для грядущего – и так до скончания века.
«Вспоминается мне тоже, что Аристотель думал, будто Гомеровы слова были крылатыми, летающими, порхающими и подвижными, а следовательно – одушевленными. Сверх того Антифан[271] говорил, что учение Платона подобно словам, которые в какой-нибудь стране, будучи произнесены в холодную зиму, застыли и замерзли в ледяном воздухе и услышаны не были. Как будто то, чему Платон обучал малых детей, едва-едва доходило до них, когда они становились стариками.
«И вот следовало бы подумать и допытаться, не здесь ли случайно то место, в коем оттаивают такие замерзшие слова. О, мы бы очень изумились, если бы нашли здесь голову и лиру Орфея. А между тем, когда фракиянки изрубили в куски Орфея, то голову и лиру его бросили в реку Гебр. По этой реке спустились они в Понтийское море, до острова Лесбоса, неразлучно плывя вместе по морю. Из головы непрерывно лилась печальная песня, – будто плач о смерти Орфея. А лира, струны которой колебались от ветра, звенела, аккомпанируя пению. Так посмотрим, не тут ли они теперь».
ГЛАВА LVI. Как среди замерзших слов Пантагрюэль нашел непристойности
Пантагрюэлю отвечал шкипер:
– Сударь, не бойтесь ничего. Здесь как раз граница Ледовитого моря, где в начале прошлой зимы произошло крупное и жестокое сражение между аримаспеянами и нефелибатами. Тогда-то в воздухе замерзли слова и крики мужчин и женщин, удары палиц, треск лат и конских доспехов, ржание лошадей и весь прочий ужас сражения. И вот сейчас суровость зимы прошла, наступила ясная и теплая погода, и слова тают и становятся слышимы.
– Ей-богу, – сказал Панург, – я этому верю. Но не можем ли мы увидеть какое-нибудь из этих слов. Мне вспоминается, я читал, что у подножия горы, где Моисей получил еврейский закон, народ воспринимал голоса зрением.
– Глядите, глядите, – сказал Пантагрюэль, – видите те, которые еще не оттаяли.
И он бросил к нам на палубу целую пригоршню замерзших слов, похожих на жемчужные драже разного цвета. Среди них были красные› зеленые, небесно-голубые, песочного цвета и золоченые. В наших руках они согревались и таяли как снег, и тогда мы их действительно слышали, но не понимали, так как это был варварский язык. Только одно довольно крупное слово, когда брат Жан согрел его в своих руках, издало звук в роде как каштан, когда его бросить, не надрезав, на жаровню, и он лопнет. Все мы вздрогнули от испуга.
– Это, – сказал брат Жан, – был в свое время выстрел из орудия.
Панург просил Пантагрюэля дать ему еще таких слов.
Пантагрюэль ответил, что давать слово – это дело влюбленных.
– Ну, так продайте, – сказал Панург.
– А это дело адвокатов, – отвечал Пантагрюэль, – продавать слова. Я скорее продал бы вам молчание, и подороже, как иной раз Демосфен продавал его.
Тем не менее он кинул на палубу еще три-четыре пригоршни. Я увидал тогда слова колкие, кровавые, такие, про которые шкипер говорил, что они иной раз возвращаются туда, откуда вылетели, но это были слова из перерезанного горла – слова страшные; были и другие, неприятные на вид.
Когда они все оттаяли, то мы услышали:
«Гин-гин-гин-гин! Гис-тик-торшь-лорнь! Бредеден! Бредедак! Ф-рр! Ф-ррр! Ф-ррр! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Тракк! Тракк! Трр! Тррр! Трррррр Он-он-он! Он-он-он-он! У-у-у-у-он! Гот-магот!» – и уж не знаю, какие там варварские слова. Говорили, что это фыркали и ржали лошади во время стычки. Затем мы услышали еще и другие грубые звуки, которые, оттаяв, походили на барабанный бой, звучали как труба, как рог или горн. Поверьте, как нас это забавляло! Мне хотелось сохранить несколько неприличных слов в масле, как хранят снег и лед – переложив чистой соломой. Но Пантагрюэль не захотел этого; он сказал, что глупо запасать такие вещи, в которых никакого недостатка нет и которые всегда под рукой, как неприличные слова у всех веселых и добрых пантагрюэлистов.