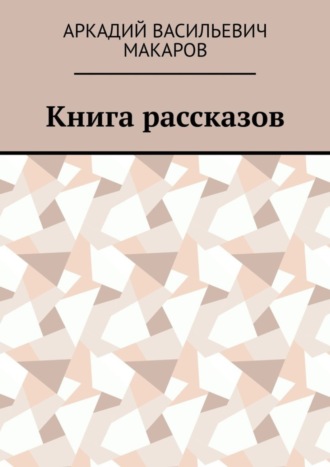
Полная версия
Книга рассказов
Дед же пил медленно, со знанием дела, и с большим достоинством. Да и куда спешить, когда спешить некуда?
– Ты вот давеча намекнул про патрон в патроннике, а сам, поди, и автомата в руках не держал, – отдышавшись, ввернул Шибряй.
Я служил три с половиной года в Германии, и мне, конечно, приходилось и не раз держать в руках боевой автомат, и даже стрелять по бегущим целям, на полигоне, естественно. Я об этом сказал деду.
Узнав, что я служил в Германии, дед оживился:
– Эх, и побили мы этих гадов в своё время!
– Да и нас они, вроде, тоже не жалели, сказал я. – Тебе где ногу-то оттяпали?
– Это уж потом, у мадьяр под Секешфехерваром – накатано выговорил, не споткнувшись, это трудное название венгерского города, Шибряй. – Вот где вина попили! Страсть! Рванёшь, какой никакой погребок гранатой, а там бочки с вином, старые до того, что плесенью все бока обросли. Подумаешь – дрянь какая-то, а из этих бочек вино хлещет ну, как кровь из борова. Сладкая, и сразу на задницу сажает… Я ведь до войны-то и вкуса этой заразы не знал. Думал, и почему это люди так жадно вино глотают? Лучше бы морс пили. Я всего в своей жизни насмотрелся. Когда раскулачивали, я ещё пацаном был, ну, так лет десять-двенадцать. Жигарь тогда нас всех под монастырь подвёл. Побираться заставил. Зверюга был, а не человек! Ну, ты его знаешь. Он еще и деда твоего к стенке ставил за то, что мой отец у вас в риге хоронился, когда свой дом-пятистенок поджёг, – дед Шибряй что-то вспомнив, горестно вздохнул. – А дело было на Рождество. Ты знаешь сам, праздник большой. Церква-то тогда позакрывали, а у нас вон какой приход был, а и то храм под МТС отдали. Ну, власть властью, а народ-то куда денешь? Народ Бога ещё помнил, и праздники отмечались, – дед поперхнулся. – Как живых вижу. Мать чугунок из печки вытаскивала, мясо парилось. Жили-то ещё, слава Богу, ничего. Отец за чистой скатертью сидел, порядок знал. Только встал перед иконами перекреститься, тут кто-то дверь в сенях ногой вышиб. А это Жигарь, он тогда ещё коммунистом был, со своими шестёрками. Наган – в руки и орёт, как припадочный: «А, сволочи! Мясо жрёте! А комбед картошку пустую, со щами лопать должен. Щас я вас сделаю!» – и бумагу какую-то отцу под нос суёт, мол, имущество ваше описано, а дом под сельский совет приспособим, и, чтобы со всеми сучонками до вечера помещение освободили. У отца моего, царство ему небесное, хоть и спокойный был, а вот-то
голова и задёргалась. Он сгрёб Жигаря и выкинул его с крыльца головой в сугроб. Зашёл в избу и трясётся весь. Мать в голос завыла, запричитала. На улице тихо стало. Вдруг из печки дым повалил. Едкий, такой, дышать нечем. Мы из дома-то и высыпались. Кто что успел прихватить. Это Жигарь трубу соломой забил, чтобы сподручней нас выкуривать было. Ворота открыты и скотина по – дурному орёт. Почуяла беду, наверное. До-олго ещё комбед гулял, по всему селу запах мясной шёл. Стоим мы, значит так перед домом, жмёмся, друг к другу, а дым из открытых дверей клубами выходит, вроде дом горит, а это ещё печка не погасла. Дрова дубовые были. Отец, как сквозь землю провалился, нет его с нами и всё. С тех пор я отца так и не видел. Он, говорили, ещё долго застреленный у церковной стены лежал. Хоронить не велели, народу острастка нужна. Мать, а у неё трое детей было, в чужое село ушла. В своём жить у родственников никак не хотела. Сёстры побираться пошли, а я маленько подрабатывать начал кому дрова нарубить, кому воды натаскать. Хлеба с картошкой в то время люди ещё не отказывали. Так и жили мы у одной старухи. Света не видели. Эх, да что вспоминать! Слёзы одни! А ты говоришь… Давай лучше по глоточку!
Мы с Шибряем молча выпили и затянулись цигарками. Каждый думал о своём. Река, как сторожевой пёс, тихо ластилась у ног.
– Хорошо, хоть война началась. Я до сыта только на фронте и поел, – прокашлялся Шибряй. – А война – она что? На войне тоже живут. Я себя там человеком почувствовал – одет, обут, сыт – чего ещё? Начальство о тебе заботится. А смерти я нет, не боялся, уж очень жизнь паскудная была. Повоевал я так недельки две, сидя в траншее, а потом команда к отступлению была. Вы, говорят, товарищи на провокацию и панику не поддавайтесь, отходите организованно. Ну и подались мы к лесу, а там, в засаду попали. Все и разбежались, кого не покосили. Я с перепугу, чего греха таить, в какую-то чащу забухался, выйти не могу. Кружил, кружил, да так и уснул под корягой. Замаскировался. Винтовку трёхлинейку между ног сунул. Куда же я без неё? Я с ней, как с невестой, так и проспал. Утром очухался – лес. Ни души единой. Только какая-то птица по дурному кричит. Дней пять или шесть я вот так и кружил по лесу. Жрать захотелось, страсть как! Где рябинки, где листик, какой прихватишь – и всё. Я уже слабеть начал. Винтовку, как собаку на привязи, за собой таскаю. Вдруг однажды за деревьями говорок какой-то услышал. Вроде наши. Подобрался, смотрю, – мужики одни, одеты – кто как, а за плечами автоматы немецкие и охотничьи ружья. Я тогда про партизан ещё ничего не слышал. Ну, и увязался за ними наподдалеке. Подойти страшно, а одному в лесу подыхать не хотелось. Стою я так за стволом дерева, гадаю: подойти – не подойти… И вдруг вроде веточка обломилась, и что-то трахнуло меня по голове, как будто бревном каким сшибло. Глаза кровью залило, ничего не вижу, и оглох сразу. Очнулся я какими-то вожжами скрученный. А это меня хохол один, Незовибатько звали, Фамилия у него такая была, прикладом по шее грохнул. Зашёл сзади и заломил. Мы вместе с ним потом на немца ходили. У меня с его лёгкой руки голова всего с месяц дёргалась и гудела, как столб телеграфный. Но, ничего, прошло… Придурок, а не злой был. Вот теперь бы с кем выпить – и в гроб. Ох. И дела мы с ним проворачивали! – дед в потёмках набулькал в стакан на слух и, шумно причмокивая, долго пил водку.
– Накось, поддержи старика! – Шибряй, дотронувшись клешнёй, расплескивая, сунул стакан мне прямо в лицо.
Деда явно уже повело, да и я чувствовал, что натощак пить вредно.
– Слышь? – встрепенулся мой собеседник. – Фамилия, какая, – Незовибатько. У них, у хохлов, все фамилии какие-то… Чудак был человек. Ежей любил. Вспорет ему, бывало, брюхо, и вытряхнет из шкурки. Мясо – жарить. А шкуру, как рукавицу, натянет на руку, и, смехом так, сзади по плечу или по спине и похлопает. Весёлый был! Ему за это не раз по морде перепадало, а всё – за своё. Как поймает ежа, оденет его на руку, – да исподтишка, исподтишка… Вот обожди, случай какой расскажу, – пьяненько хихикнул дед. – Мы с этим Незовибатькой фрица одного заарканили. Командиру сведенья нужны были. Вот и послали нас двоих в деревню за языком. Приметили мы дом один, где немцы квартировали, ну и притаились на задах, за огородами. Дело-то к ночи было. Осень. Примораживать стало. Сидим, ждём. Он, хоть и немец, а перед сном тоже на двор ходит, оправляется. А какие тогда в деревне уборные, – одна крыша, да и то – небеса. Ждём, значит, у кого живот послабее. Долго ждали, аж, ноги занемели. У них, известное дело, галеты – не скоро дождёшься. Матюкаюсь я так потихоньку, вдруг вышел один. Только он стал приспосабливаться, – так я ему сзади шнурок на шее и передёрнул. Он опрокинулся на землю, – и молчок, Вроде, как похрапывать стал. Ну, мы его за руки, за ноги и поволокли к кустам прямо так, со спущенными штанами. А там, в кустах наше прикрытие сидело. Я шнурок чуть приспустил, а мой напарник ему в это время кляпом рот и забил. На плащ-палатку завалили немца, как барина, и – бегом к лесу. Километров так пять или шесть волокли, а потом на ноги поставили. Штык в спину и – «шнель, шнель». Скорее, значит. Ну, доставили мы его прямо к землянке – честь по чести. Командир нам за это на радостях по фляжке спирту выдал, Знающего человека привели. Ну, они там с переводчиком начали шпрехать, а мы со своим дружком Незовибатько, с фляжками – да на кухню! У нас ведь тогда немецкое довольствие было. Не довольствие, а – одно удовольствие. Как что подбирается, так мы сразу дозоры по дорогам расставляем. Интендантский обоз пасём – пять минут испугу, и жратвой обеспечены. Галеты, конечно. Сосиски в баночках. Шоколад, кофе. Ну, и спирт, конечно… – дед шумно сглотнул слюну, и зашарил по карманам. – Вот, мля, где-то семечки были! – но ничего не обнаружив, стал, рассыпая махорку, крутить козью ножку. – Да, были времена, как на жеребце стремена, вскочишь и не знаешь, то ли понесёт, а толи из седла выбросит… Ты как, сосиски немецкие пробовал? – поинтересовался Шибряй. Видно закуска у него не выходила из головы.
– Да приходилось, иногда в самоволке в гаштет заглянуть, дупелёк-другой опрокинуть. У них этого товара на каждом шагу. Только вот горчица какая-то квелая, как детский понос. Сунешь туда сосиску, а на языке преснота одна.
– Вот и я говорю, как солома. Нашему брату этих сосисок надо вязанку, чтобы в животе их почуять. Ну, мы, это, отвлеклись. Немец-то наш жидкий оказался. Всё сразу начальству и выложил. А начальству он на другой день, как сопля на рукаве, – не нужен. Куда его приспособить? Сам подумай! За собой таскать не будешь… Не, пленных мы сразу в расход пускали. Что на них, молиться что ль?
– Да, – поддержал я деда, – действительно, куда его, немца девать? Если бы собака была, то на цепь посадить можно. А-то ведь человек…
– Ну, вызывает на следующий день командир, – продолжает уже порядком захмелевший Шибряй, – а у меня морда не просохла. Голова, как колун. Иду. Стучусь в дверь. Прибыл, мол, партизан Шибряев по Вашему приказанию! Командир улыбается. В хорошем настроении, значит. «Вы – говорит, – товарищ Шибряев и Незовибатько, этого немца нашли, а теперь его потерять надо. Отведи этого Ганса куда-нибудь в сторонку, и билет ему на тот свет потихоньку выдай. Этот фриц, мужик хоть и хороший, а дела мы с ним все сделали, и управились быстро, так что ты его сразу и сделай. Понял?». «Об чём разговор?! – отвечаю.
Я эту задачу уже предвидел, когда мы с Незовибатько с таким нетерпением за сараями его ждали. А этот фриц, ну, никак из землянки уходить не хочет. Пригрелся. Хоть и немец, а понятливый был. Достаёт из кармана фотографию и говорит: – «Хаус! Хаус! Фамилия» – семья, значит. А на фотографии немчура сидит: воротнички белые, чистые, опрятные, и улыбаются все, как на празднике каком. Ну, этот фашист слюни и распустил. Плачет: -«Нихт шиссен! Нихт шиссен!» – вроде как, – «Не стреляй!», если по-нашему. И всё —«Хаус, хаус! Фамилия!» – дом, семья, по-ихнему. И адресок командиру суёт. Напиши, мол, – где и что.
Ну, я его, немца-то, немного встряхнул, чтобы в порядок привести. Пора, мол, и на отходную. Загостился ты здесь.
Вышли мы из землянки, солнце в нос шибануло, аж, чихать я стал. Морозец такой. Лес. Тишина, На сосне иней лёгкий, дунешь, – как с одуванчика. Ну, и пошли мы с фрицем к овражку. Ещё летом мы там завсегда ежевикой баловались. Думаю, – хлопну я его здесь. Зима на носу. Небось, не протухнет. А к весне мы всё равно лагерь снимать будем.
Иду я, значит, так с немцем в затылок, а неподалеку наши ребята дрова на баньку пилили. Суббота, вроде, была, – банный день. Смеются: – «Веди, – кричат, – своего немца, нам подсобить, Дрова попилить, поколоть. Пусть перед смертью разомнётся. Грех свой фашистский искупит честным трудом!»
Ну, подошли мы с фрицем, а ребята ему в руки пилу суют. На, мол, потолкай-потяни её туда сюда. Ну, немец заартачился, никак пилу в руки брать не хочет. «Ах, ты – думаю, – падла фашистская! Буржуй недорезанный! Руки-то, вон пухлые какие! Да белые. Как у бабы. Небось, и пилы-то никогда от рождения в руки не брал. Не держал. А здесь как раз Незовибатько очутился. Похмелёный уже. Морда красная, как варежкой натёртая. Сияет весь. «Я. – говорит, – эту курву немецкую щас на козлы раком поставлю!» Ну, хватает его, вроде как, шутя, и заваливает на козлы, на бревно, значит. А ребята ему мигом под козлами руки-ноги связали. И стоим, курим. Гадаем, – что делать? «А чего думать! – орёт Незовибатько. – Давай мы эту блядь немецкую пополам перепилим. Они моих батьку с ненькой из-за меня живых в доме сожгли!» Ну, и затрясся весь. Хватает пилу, и суёт один конец мне в руки: – чего стоишь, подсоби, мол.
Вообще-то я к чужой смерти привычный, а тут – закрыл глаза, и рванул пилу на себя. Немец сразу обмяк весь, только как-то ойкнул нехорошо. А Незовибатько от меня пилу на себя тянет. Не пила – бритва! Я её сам точил-наводил. На это дело мастер во, какой был!
Ну, дёргаем мы пилу, а из этого фашиста мокрота сразу так и пошла. Много мокроты было. Подёргался он так на козлах, вроде, как рыдать стал, а уж половина его с бревна съехала… Оттащили мы этого фрица к оврагу. Да так с обрыва и спустили.
Я быстро зашарил по траве, ища бутылку.
– Чего искать, чудак? Вот она!
Я задавлено протолкнул в себя тёплую мерзость содержимого.
Дед за мной доделал бутылку до конца.
Две бутылки на голодный желудок сделали своё гнусное дело. Сбиваясь с разговора, Шибряй запел какую-то героическую песню, перемежая слова матерщиной. Я пытался его поддержать.
Мы материли власть, войну, коллективизацию, проклятых фашистов коммунистов и демократов.
Молча стояли за спиной ночь и та яркая немигучая звезда, осветившая чью-то дорогу.
Дед вдруг сразу повалился навзничь и, булькая горлом, захрапел.
Темнота и меня, толкнув в грудь, опрокинула на траву. Звёзды, кружась, как мошкара, облепили мне лицо. Последнее, что я помню, – были слова: «Эх, ты, грёбарь!», и белые брыкучие груди, которые мне никак не удавалось зацепить губами…
А потом был сон тяжёлый и страшный.
Снилось мне: утро, трава под ногами, изба деда Шибряя. «Хаус! Хаос, хаос» – на немецкий лад тараторит дед, показывая, на слепые от раннего солнца два крестовых, в наличниках, окна. На крыше Шибряевой избы, прямо на коньке верхом, сидит комбедовец Жигарь, прилаживая огромный красный флаг, но это ему никак не удаётся, – мешает большой чёрный наган, который он никак не хочет выпускать из рук. Сам Шибряй сидит на завалинке. Босиком. Обе ноги здоровые. Мне видно, как в траве шевелятся его белые и упругие, как грибы, пальцы. Дед держит в руках двуручную пилу. Ну, совсем, как гармошку, От пилы разлетаются красные, огненные брызги. Дед двумя руками, растягивая и сжимая пилу, блаженно улыбаясь, перепиливает себе ноги. Руки у деда в крови. Кровь стекает у него по штанине и, журча ручейком, бежит в заросший крапивой овраг. Напротив деда стоит тот несчастный немец, плачет, тянет к деду, тоже испачканные кровью руки, и умоляет отдать ему пилу – он тоже на ней хочет попилить-поиграть. «Gib mir! Gib mir! Дай мне!» – настойчиво твердит он…
Cherchez la femme
Осень была неряшлива и безобразна. Она стояла за окном, как плаксивая пьяная баба, назойливо заглядывая своими водянистыми глазами в мою неприбранную душу. Грязные, нечесаные космы, свисающие кое-как с низкого неба, цеплялись за деревья, унося за собой последние листья. Листья отчаянно цеплялись маленькими коготками за тонкие голые ветви, трепеща от страха – улететь. Что делать? Всему свое время – время сеять и время собирать посеянное.
Ни на что не надеясь, я сидел в маленьком гостиничном номере, какие бывают в наших районных городах: комната – два на три метра, у стены – деревянная узкая кровать с продавленным матрацем, стол в винных подтеках, на столе графин закрытый щербатой рюмкой без ножки – пей до дна!, рядом с койкой шаткий скрипучий стул, сидение и спинка которого обтянуты коричневой потертой клеенкой. Вот и весь антураж. Но это временное пристанище и вся убогая обстановка, в тот момент, были дня меня милее всех дворцов и палат. Мне не хотелось уходить отсюда туда, в неизвестность, которая может обернуться для меня чем угодно, но только не благополучием. Я сидел и ждал. И, если говорить по правде, трепетал, как тот одинокий листок на зябкой ветке. Я ждал, что меня повяжут. Вот так, придут и повяжут, и пойдешь не туда, куда сам хочешь, а куда поведут…
Дело в том, что я оказался в этой гостинице не по своей воле. Около месяца назад, меня прислали сюда, возглавлять здешний монтажный участок, В такую поганку и глушь порядочного человека не направили бы, да он и сам бы не поехал.
Участок, где я должен исполнять обязанности начальника, пользовался дурной славой, хотя по всем производственным показателям он был самый благополучный. Как это удавалось Шебулдяеву, бывшему начальнику участка, – для меня оставалось загадкой. Наверное, прежде всего надо сказать, что начальник тот, был человек крутой, с уголовным прошлым, сиделец, то ли за воровство, то ли за крупную растрату по подложным документам, что, в сущности, одно я то же. Конечно, без покровительства сверху, такого человека к руководству участком и близко бы не подпустили.
С Шебулдяевым я знаком не был, так, как-то раз видел его красную, подпитую морду в приемной нашего управления, где он, нахально развалясь в кресле, отпускал банальные шуточки нашей секретарше Соне, и не упускал возможности потрогать ее мягкий зад, пока она шныряла мимо в кабинет и из кабинета начальника. Значит очень крепко стоял на ногах этот Шебулдяев, если вот так шумно и при людях оказывал свое недвусмысленное внимание карманной игрушке Самого.
Что делать? Сам – есть Сам, его приказ – закон, не дуть же против ветра! И я, молодой специалист, но уже, как мне казалось, наученный жизнью, старался не конфликтовать с начальником и не очень-то высовываться в среде своих сослуживцев. Эдакий, маленький Премудрый Пескарь!
Работал бы я и работал, себе, инженером в отделе главного механика, перекладывал бумажки исходящие и входящие, если бы не эта злополучная командировка.
На мое несчастье, Шебулдяев на этот раз запил, и запил крепко. Все бы ничего – он, по разговорам, и раньше не просыхал, но на этот раз его пришлось отозвать в ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий для тех, кто не знает.
В припадке алкогольного психоза он во время очередной планерки кинулся с монтажкой, – металлическим прутом на куратора стройки, видного партийного работника-товарища.
Времена тогда были суровые, коммунисты, известное дело, шутить не любили, и шутку товарища Шебулдяева многие не поняли. Был вызван наряд милиции, но Шебулдяев, пользуясь заступничеством Самого, вместо тюрьмы, оказался в ЛТП.
Лечением, конечно, эти профилактории не занимались, а кое-какая польза от них все же была. Во-первых, человека изолировали и ломали его волю, а во-вторых – бесплатная рабочая сила на особо тяжелых производствах. Одним словом – каторга.
Но, я, кажется, отвлекся… Моя новая должность и командировочное удостоверение давали мне право на отдельный гостиничный номер, а, не как обычно, койку в общежитии.
Этот, ставший для меня роковым, участок был задействован на монтаже оборудования сахарного завода. Как и все горячие стройки, эта так же кишела народом, приехавшим сюда чуть ли не со всех концов страны. Партком был завален и идеями, и персональными делами. Когда я пришел встать на учет, на меня там посмотрели, как на, помешанного.
Бестолковщина – спутница всех комсомольских строек, сначала сбила меня с толку, но потом я быстро адаптировался, благодаря моему возрасту и раннему производственному опыту. Труднее было с бригадой. Участок, разбитый на звенья, требовал постоянного присутствия и надзора, тем более, что технологическая цепочка была сложной, а за этим сбродом нужен был глаз да глаз.
Монтажники – народ своеобразный, свободный, всегда в разъездах, без женского внимания и семейных тягот. А такой народ более всех склонен к пьяному разгулу и безобразиям. Не мудрено, что большинство из них были, или сидельцами, или уже на подходе к этому. Сидельцы – люди обидчивые и злопамятные – промаха не прощают. Попробуй, споткнись, и они тебя тут же повалят.
Приход свежего человека в любой коллектив настораживает. К новичку всегда с подозрением приглядываются, и, как говориться, всякое лыко вставляют в строку.
Первое, что я сделал после размещения в гостинице, это пошел на стройку, разыскал своего бригадира, и велел ему собрать весь участок в одной из бытовок. Был, как раз, обеденный перерыв и люди потихоньку стали подходить один за другим, с явным любопытством приглядываясь ко мне: «Что это еще за козел вонючий прибыл к нам в начальники?» Рабочие всегда к начальству относятся, как это ни парадоксально, свысока и снисходительно. Мол, да что там! Видали мы вас в гробу! Мы одни, а вас, придурков, до… и более.
Но, что самое интересное, каждый начальник, для виду, старается с рабочим заиграть, подладиться под рабочего, простачка из себя показать. И, чем длиннее дистанция, тем примитивнее подыгрывание – советская выучка!
Дистанции у меня не было, и подыгрывать мне было некому. Я играл самого себя.
Все началось с того, что меня не представили. Эта, на первый взгляд, маленькая деталь и определила ко мне все дальнейшее отношение участка. Рабочие очень чувствительны ко всем подобным нюансам. «Не представили – значит, не посчитали нужным, значит и цена ему – рупь в базарный день. Что с него взять? Придурок, он и есть придурок!» – угадывал я в их, с тайным подвохом и угрозой, взглядах. «Не ко двору пришелся…» – мелькнуло у меня в голове.
Тем не менее, работа – есть работа, и, ознакомившись с каждым монтажником по табелю и лично, я провел инструктаж, как того требуют правила техники безопасности, и попросил бригадира, невысокого хмурого мужика в рваной брезентовой робе, составить мне компанию для ознакомления с производственным объектом. Тяжело посмотрев на меня исподлобья, он сделал знак головой – идти за ним.
Само качество труда и организация рабочих мест, конечно, оставляли желать лучшего, и я напрямую сказал об этом своему проводнику. Тот, вроде как, весело хмыкнул, и не проронил в ответ ни слова.
Его невозмутимость злила меня, и я стал читать ему азбучные истины: о качестве исполнения, об организации и тщательном соблюдении технологии монтажа, о строительных нормах и правилах и о еще чем-то для него обидном. Мне хотелось вызвать в нем аналогичную ответную реакцию. Но он, видимо, вовсе и не слушал меня, только катал и катал носком сапога валявшийся тут же обрезок трубы.
Накопившееся неудовольствие требовало немедленного выхода, и я, со всего размаха пнул пустую картонную коробку из-под электродов, всем своим видом давая понять – кто здесь хозяин, и – нечего захламлять рабочее место разным мусором!
От моего удара коробка не сдвинулась с места, а я, приседая, со стоном ухватился за ушибленную ногу, – перед этим, какой-то шутник в коробку сунул чугунину в надежде хорошо посмеяться. Я не думаю, что это было сделано специально для меня. В самом деле, откуда весельчаку было знать, что я, непременно, буду здесь, и, непременно, ударю по этой злосчастной коробке.
Как бы то ни было, но шутка удалась, боль в ноге была невыносимой. Бригадир тут же участливо подхватил меня под руку, но я зло отмахнулся от него. Надо отдать должное его хладнокровию и выносливости – торжествующего смеха я от него не услыхал.
Припадая на правую ногу и матерясь про себя, я повернул обратно в бытовку с намерением провести необходимый техминимум по организации рабочих мест.
Открыв дверь, я остолбенело уставился на стол: перед моим уходом на столе, кроме разбросанных костяшек домино и обсосанных окурков, ничего не было, а теперь торчали: бутылок пять-шесть водки, газетный кулек с килькой, буханка хлеба и еще что-то съестное.
Все это, ну, никак не входило в мои планы по организации и наведению должного порядка на участке.
Тогда я придерживался одной истине – не пей, где живешь, и не живи, где пьешь. Она звучит так, если немного перефразировать известную мужскую поговорку.
Что в моем положении оставалось делать? До конца рабочего дня еще далеко, а эта посудина на столе ждала своего освобождения, и – немедленного. Я сделал, на мой взгляд, самое умное, что можно было в этой ситуации сделать: повернувшись, молча вышел из бытовки, слыша за спиной неодобрительный гул.
Что это? Провокация, или искреннее желание, таким образом, с водочкой отметить знакомство с новым начальником? Не знаю. Я ушел, и формально был прав, а так…
Потерянный день не наверстаешь, и я, покрутившись, для порядка на стройплощадке, подался обратно в гостиницу. «Ничего! Ничего! – уговаривал я сам себя, – Завтра будет день и будет пища. Надо затянуть гайки. Я знал, что они распущены, но не до такой же степени!»
Моему возмущению не было предела, хотя здравый голос мне говорил, что не надо пороть горячку. Надо во всем разобраться. Может быть, они от чистого сердца решили меня угостить, а я полез в бутылку?
Как бы там ни было, но злость и обида не проходили. К тому же мозжила разбитая нога.
Присев на лавочку у палисадника, я расшнуровал ботинок и осторожно вытащил из него ступню.
Освободившись от носка, я увидел, что большой палец ноги был лилово-черным и распух, он стал похож на большую черную виноградину. При попытка помассировать его, я дернулся от боли – футбольный удар был, что надо! Хорошо, если не сломана фаланга, а то еще долго мне костылять на манер шлеп-ноги. Обратно сунуть ступню в ботинок, было делом мучительным, и я, проклиная себя за то, что разулся, вытащил шнурок из ботинка, кое-как втиснул туда ногу и пошел, прихрамывая, к центру города.

