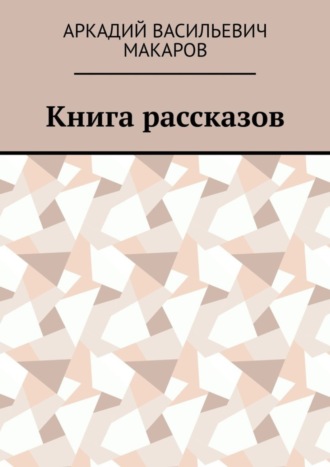
Полная версия
Книга рассказов
В углу на старых вытертых диванах посиделки. Оттуда слышится протяжная старинная песня: «Мил уехал, мил оставил мне малютку на руках. На руках. Ты, сестра моя родная, воспитай мово дитя. Мово дитя. Я бы рада воспитати, да капитала мово нет. Мово нет…»
Потянуло далеким семейным праздником, небогатым застольем в нашей избе. Здоровая, молодая, шумная родня за столом, покачиваясь, поёт эту песню. Дядья по материной линии голосистые, напевные. Песню любят больше вина. Я лежу на печке, иззяб на улице – теперь греюсь. Слушаю. И не знаю, почему наворачиваются слезы на глаза. Мне жалко брошенной девушки. Жалко малютку на руках, такого же, как и мой братик в полотняной люльке с марлевой соской во рту… Да… Родня… Песня… Детство… А-у!..
4
Беру в руки скарпель, – зубило такое с длинной ручкой, молоток и начинаю долбить кирпич в стене. Здесь должна проходить труба. Кирпич обожженный. Звенит. Бью резко, Скарпель, проскальзывая, вышмыгивает из кулака. Палец краснеет и пухнет на глазах. Гена, буркнув какую-то гадость в мою сторону, подхватывает скарпель и продолжает вгрызаться в стену, пока я изоляционной лентой перематываю ушибленное место. Гнусно на душе. Пакостно. Хочется всё бросить и уехать в город: принять ванну, надеть чистое белье, развалясь в кресле, пить кофе с лимоном, и смотреть, смотреть очередной бразильский сериал, от которого я недавно испытывал только зубную боль. А теперь и он вспоминается с затаенной тоской.
Назавтра – Седьмое Ноября. День согласия и примирения, так теперь, кажется, называется памятная дата начала глобальных экспериментов над Россией, приведшего её к такому постыдному состоянию, когда затюканный народ, чтобы прожить, должен наподобие нищего « лицом срамиться и ручкой прясть».
В Дом пожаловали представители администрации области поздравить неизвестно с чем, собравшихся в маленьком кинозале обитателей, болезненно напомнив им о шумной молодости и дружных демонстрациях в честь Октября – красного листка календаря. До одинокой, неприкаянной старости, тогда было далеко, да и не верили они, хмельные и здоровые в эту самую старость, когда душа становится похожа на дом с прохудившийся крышей, через которую осеннее ненастье льет и льет холодную дождевую воду. А спрятаться негде…
– Безобразие! – выговаривает высокий гость директору, показывая
на нас с Геной, громыхающих ключами возле истекающего
ржавой водой распотрошенного вентиля. – Праздник портят! Сейчас
должна самодеятельность прибыть, а здесь они с трубами раскорячились!
Халтурщики!
Мы с Геной ухмыляемся, переглядываясь, и начинаем еще ретивее греметь железом.
Правда, обещанная самодеятельность так и не приехала. Чиновники, подражая ведущим передачу: «Алло, мы ищем таланты!» вызывали на сцену под бравые выкрики, тоже принявших на грудь ради такого дела, повеселевших старичков с рассказами о героическом начале дней давно минувших. Не обошлось, конечно, и без Арчилова, который и в этот раз клеймил позором неизвестно кого, призывая с корнем выкорчевывать иждивенческие настроения масс.
В этот день и нас тоже не обошел нежданчик.
К вечеру на белом джипе подкатил наш работодатель. Румяный, молодой, в ярком адидассовском спортивном костюме, модным ныне среди «новых русских» на фоне серого обшарпанного здания и нас, замызганных и усталых, среди пергаментных постояльцев Укачкин выглядел молодцом. Король-олень, да и только!
По рукам ударять не пришлось, но поприветствовал он нас вполне дружески:
– Ну, что, мужики, с праздником вас! Работу кончили?
Гена почесал в затылке – больно скорый начальник.
Делов еще на целую неделю, а он уже прикатил.
– Ну, ладно, – говорит он миролюбиво. – Поднажмете ещё. Я, вот,
позаботился о вас! – достает из машины полиэтиленовый пакет. В пакете бутылка водки и румяный батон вареной колбасы.
Ну, вот, теперь и для нас День Революции! Работодатель улыбается:
– Ну, что – со мной можно иметь дело?
– Можно, можно – говорит мой напарник, забирая угощение. – Да
и авансец надо бы выплатить. Работа кипит. Пойдём, посмотрим!
Укачкин идёт за нами. Осматривает сделанное. Доволен. Взгляд хозяйский покровительственный. Было видно, что здесь он имеет свой маленький бизнес, копает денежку, Лезет в карман, достает несколько сотен. Протягивает – берите, берите. Бумаги на получение аванса никакой. Зачем бюрократию разводить. Вот они, деньги! Пластаются на ладонь листок к листку. Пусть пока сумма небольшая – аванс всё-таки!
Мы довольны. Хороший человек! Хороший хозяин. Своих работников не забывает! Бросает ногу на педаль, газуя, лихо разворачивается и уезжает.
Нам с Геной нить некогда. Дела. Потом догоним. Дом без горячей воды. Директор нервничает. Который день не работают душевые и прачечная. «Вы, ребята, пожалуйста, пожалейте стариков…» И мы поспешаем, жалеем стариков – бьём-колотим, гнём-контуем, режем-свариваем, концы заводим.
За полночь к нам подходит дежурная медсестра. Уговаривает не греметь:
– Тише! Человек умер. Хороший дедок был. Аккуратный. Учитель бывший. Пришла к нему укол делать, а он холодный. А этот малахольный Арчилов кричит, что он с покойником вместе спать не будет. Может, в коридор учителя поможете вынести? А?..
Смерть – самое естественное в этом мире, а привыкнуть нельзя. Разум кричит. Как сказал великий поэт, – «Перед этим сонмом
уходящих я всегда испытываю дрожь». И у меня нехорошо сжимается сердце.
Бросаем работу. Гена зачем-то берет обрезок трубы, и мы поднимаемся в палату, где лежит покойник. Арчилов возмущенно размахивает руками, что-то клокочет.
– Замолчи, гнида! – Гена поднимает трубу и Арчилов в подштанниках, взлохмаченный, прихватив одеяло, выбегает в коридор и устраивается в углу на диване.
– Пусть учитель побудет один, – говорю я, и медсестра соглашается.
Накрытый тёмным солдатским одеялом, бывший учитель с неестественно выступающими ступнями страшен в своей неподвижности.
Мы, не выключая свет, уходим.
Арчилов уже храпит на весь этаж беззаботно и отрешенно.
Идём в свою бытовку помянуть учителя.
Утром в маленькой комнатке, служащей чем-то, вроде, домашней церкви, возле бумажных икон горят несколько свечей. Кучка старушек неумело крестятся, глядя на горящие свечи. Их комсомольская атеистическая молодость все еще проглядывает сквозь сухие скорбные лица.
В столярке опять оживленно. Выбирают доски, которые посуше да попрямее на новый гроб. Жизнь идет своим чередом…
А Укачкин так и не заплатил нам за выполнение работы. Говоря по-теперешнему – кинул. Что с него взять? Какое время, таков и человек в нем,
А мне как раз подоспел гонорар из журнала. Так, что с куревом теперь все в порядке. Хотя заразу эту пора бы и бросить» Да все никак не соберусь. Прилипчивая сволочь!
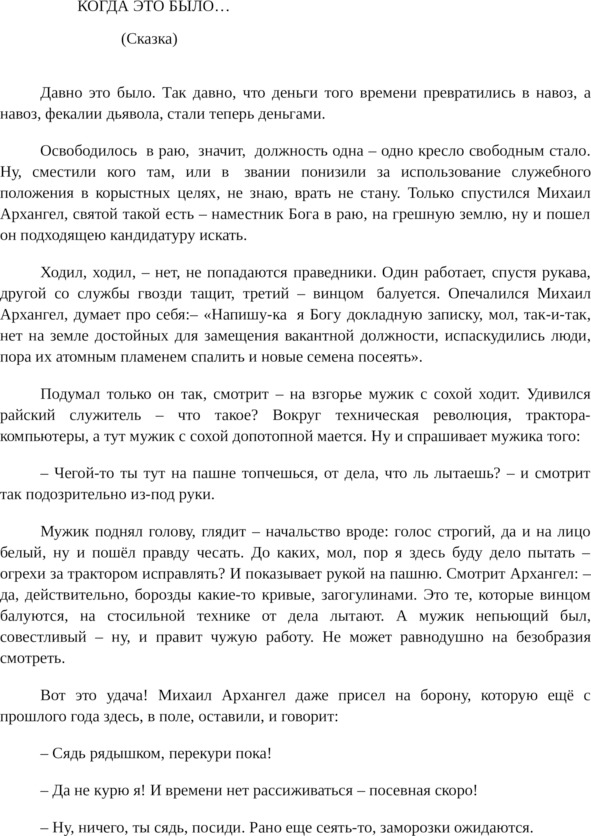
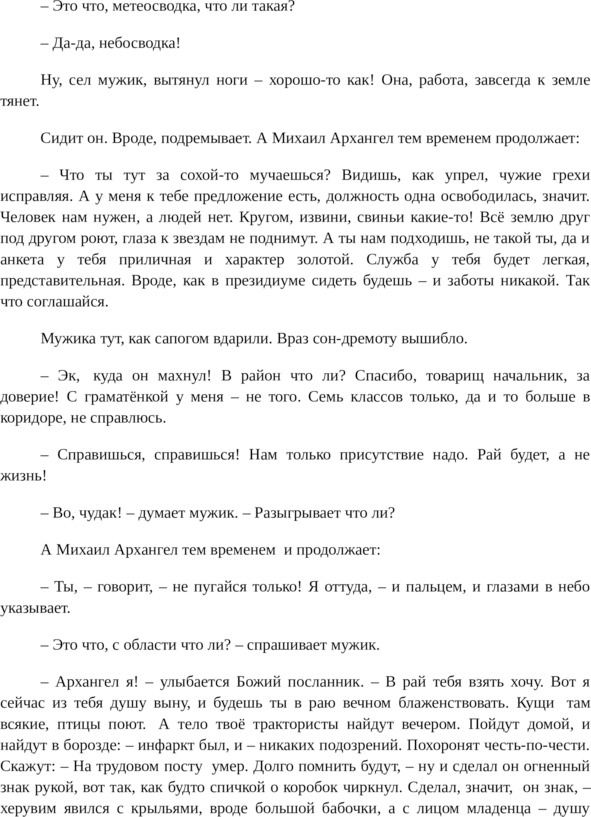
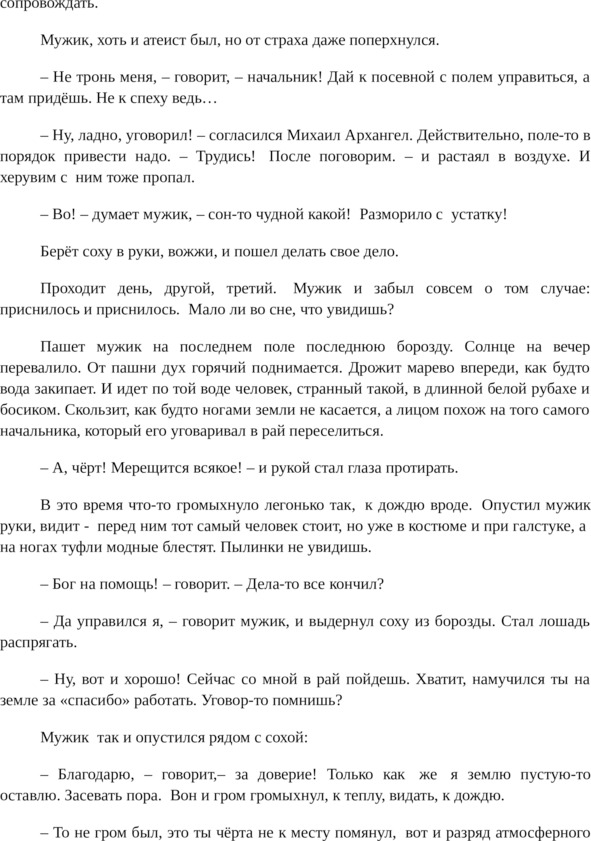
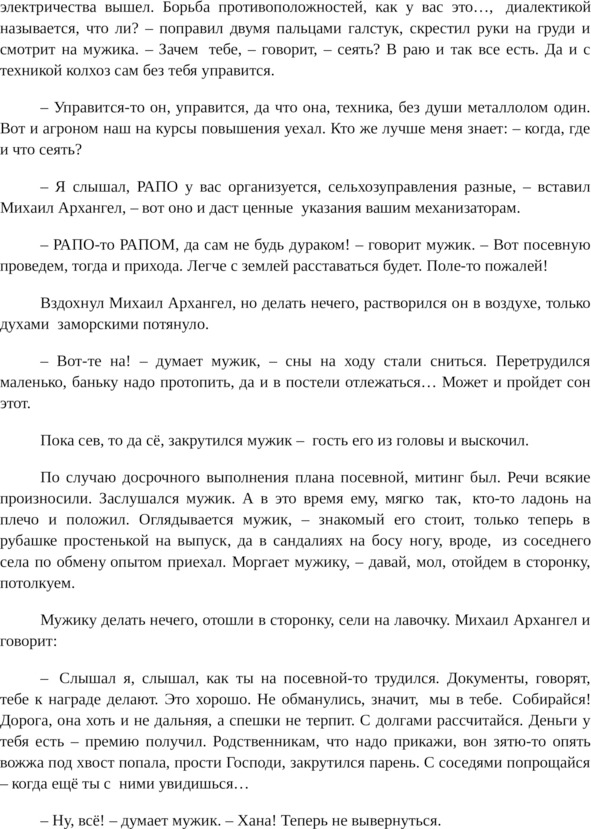
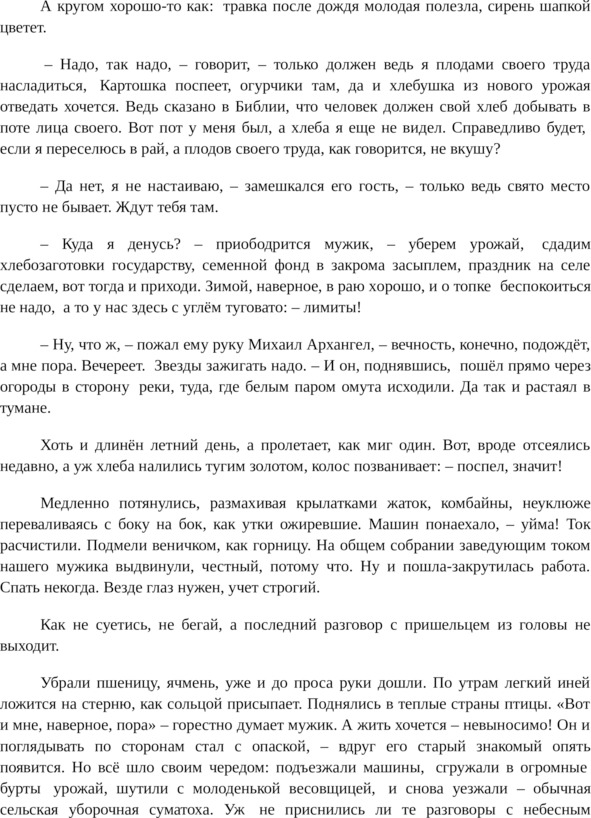
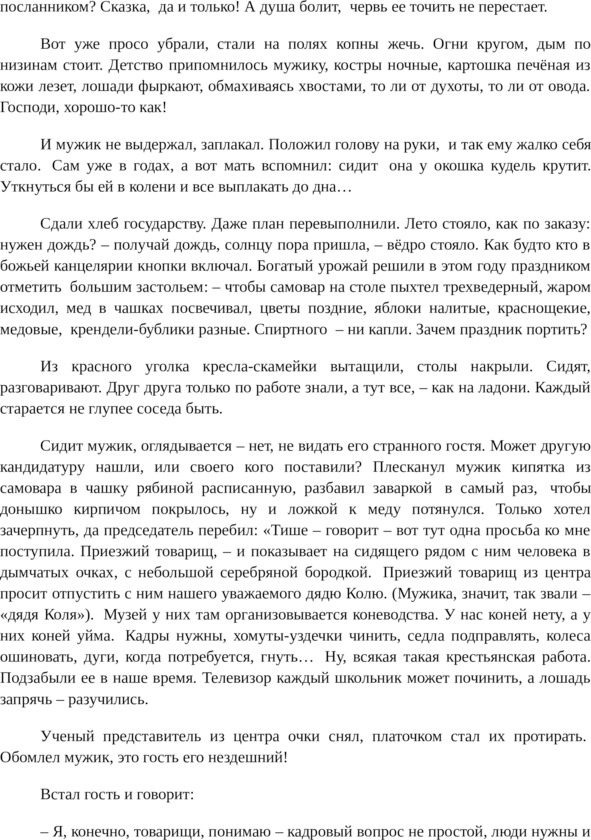
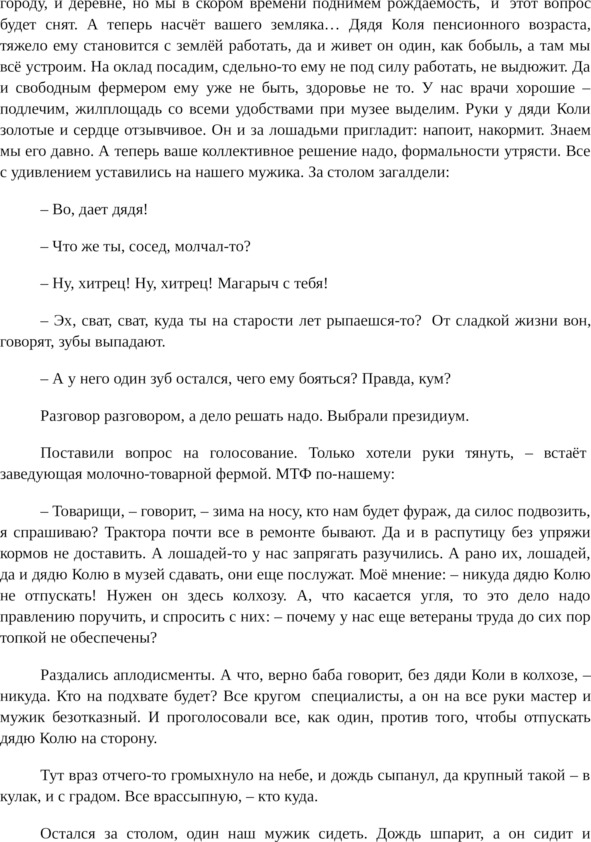
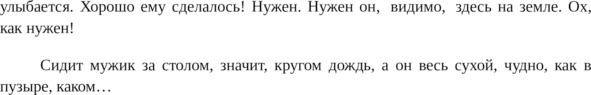
УТРЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
Ранним осенним утром, когда, заблудившийся спросонок ветер, на ощупь зябко перебирает сухие, насквозь проржавевшие листья, и свет электрических фонарей, кажется нелепым и расточительным в наши времена перманентного кризиса, из старой пятиэтажки прошлого времени с облупленной местами штукатуркой вышел молодой человек, оглянулся на еще темные окна, подхватил тачку и заспешил туда, где громыхая железом о железо, сталкивались, скользили и ворочались составы товарных поездов.
Пассажирские здесь не ходили.
Городок отличался небольшим размером своих узких улиц, каждая из которых оканчивалась или лесом, или станцией грузовых перевозок.
Таких городков по Росси множество. Вырубалась тайга, мощные землеройные машины срезали сопки, осушались болота, обводнялись пустыни и все для того, чтобы в одно время привезти сюда будущих насельников с домочадцами и заполнить пятиэтажки из силикатного кирпича молодыми голосами и детским плачем.
Городки такие имели приставку «моно», то есть один. Один – и все тут!
Большие люди за кремлевскими стенами знали, что делают. На один рубль затраченных средств приходилось девять рублей комфортной жизни государства без военной бойни и катаклизмов. Заокеанские ястребы не осмеливались точить когти, свысока посматривая на тучную добычу. Как в русской пословице: хоть видит око, да зуб неймет.
Такие городки жили тихо, особо не высовывались, на карте обозначены не были, вроде их и вовсе нет. Тишина жизни еще не значила, что люди здесь ничего не делали и разговаривали только шепотом: кузнечным грохотом железом по железу в три смены гремели заводы, в тишине лабораторий сопрягая интегралы, дифференциалы, синусы и косинусы ломали голову люди в очках, в конструкторских бюро у кульманов выводили на ватманской бумаге углы, овалы, стрелки, пунктирные и жирные линии молодые, склонные к самоиронии люди. Шла обычная напряженная жизнь во имя Государства, во имя будущего своих детей свободных от власти денег, стяжательства, казнокрадства.
Один вид стяжательства признавался здесь – стяжательство духа.
Но, как известно, дьявол живет в мелочах. Комары задрали неуклюжего государственного медведя. Гнус с арбатских двориков маленькими хоботками прокусывали шкуру великану и сосали, и сосали живую кровь, пока этот государственный медведь не рухнул. «Берите, сколько проглотите!» густо зудел над тушей самый старший гнус, пахан арбатской дворни. И хватали, и жрали, и не давились…
Вместе с Государством стали ветшать, осыпаться прахом его мускулистые силы – моногородки.
Люди в очках, забыв о математических символах, подались в обслугу к своим младшим научным сотрудникам, комарикам, которые, не брезговали поступать принципами и от общего стола урывали столько, что сытный тук вылезал из ноздрей их и даже просачивался чрез ушные перепонки.
Предприятия банкротили, людей отпускали в бессрочный отпуск без сохранения содержания.
Все ценное было растащено на залоговых аукционах. Драгметалл и редкоземельные сплавы ушли за границу. Заводское оборудование на товарняках увозили, как металлолом в Прибалтику. Лаборатории за ненадобностью разрушили. Прах пустота разъедает все скрепы.
Городки стали опустошаться.
Вот в одном таком городке по стечению обстоятельств мне пришлось одно время перебиваться с киселя на воду.
В городке этом одним из детей Арбата был срочно образован приват-банк, ну, не банк в прямом смысле слова, а банчок, если так можно выразиться, с уставным капиталом в несколько тысяч, способным разве только оплатить стоимость судебных издержек.
Но, порядок, есть порядок.
Банку требовались охранники. Имея за спиной некоторые навыки охранной службы и газовый револьвер, переделанный под боевые патроны, я после непродолжительной беседы с учредителем банка Рафаилом Ефимичем Ивановым, был принят на временную работу по охране нового капиталистического заведения.
Капитал живет, где хочет. А я вынужден жить там, где капитал.
Рафик, так все называли хозяина, был человек демократичный, с улицы, и вел себя с работниками банка тоже демократично, разрешал брать мелкие кредиты, но под большие проценты, в самый разгар рабочего дня мог рассказать забористый анекдотец, со всеми вместе попить чайку, побалагурить. У него была одна очень приметная привычка, всколупнуть у сотрудника, пока тот ищет сахар, хлебный мякиш и долго мять его между пальцами, пока свежий мякиш не превратится в настоящий пластилин.
Каждый раз из его горсти выпрыгивали на стол чертики. Всегда только чертики.
Эту привычку я, когда-то в далекой юности, работая в монтажной бригаде, не раз замечал у своего прораба.
Время давнее, послесталинская амнистия, прораб только вернулся с мест весьма отдаленных и тоже лепил в обеденный перерыв, отщипнув у какого-нибудь монтажника мякиш, тоже до бесконечности мял между пальцами, и выпускал чертиков, которые на вольном воздухе быстро каменели и украшали наш скудный стол, сваренный из тавровой балки и листового железа.
Теперь вот этот наш Рафик…
Рафик на работу своих сотрудников смотрел сквозь пальцы, охранная служба не имела четкой инструкции, каждый работал не за совесть, а в прямом смысле, за жизнь. Убийства из-за денег были обычным делом, и Рафик хорошо знал, что без инструкций и особого догляда охрана будет бдить лучше любого пса.
Работали – ничего себе. Рафик платил исправно до той поры, пока наш президент не дал указания службам «не кашмарить бизнес проверками».
Каким-то образом Рафик в Центральном банке получил кредит в несколько миллиардов на развитие «инноваций» и, не долго собирал вещи. Теперь он не на южном берегу Ледовитого океана, как того требует закон, а на северном пригороде Лондона. Теперь он там лепит своих чертиков и за ненадобностью бросает их в Темзу.
Но это случилось гораздо позже, а пока сотрудники банка слушают веселые анекдоты и радуются за такой демократичный подход к работе. Вот и я тоже – пока сижу, вспоминаю анекдоты хозяина и строго оцениваю обстановку – что, если что? Ведь недавно прямо в своем подъезде был застрелян полковник, только что вышедший на пенсию. Он возвращался на своей машине из штаба окрга, где ему должны были уладить квартирный вопрос. Время позднее. Кто-то полковника поджидал, думал, что тот поехал за пенсией – денжишь уйма! А полковник был пустой, пенсию обещали выплатить в конце года. Какие вопросы? «Отдыхай, полковник на гражданке, а нам служить еще, как медным котелкам! – сказали в штабе. – Мы сами без соли…» «А, – сказал полковник! – Я бы вас в Афгане, как горных козлов по ущелья погонял. Сидите, гиморрой мнете, служаки!» – и ушел с таком. Ни с чем, значит. А полковник – душа человек! Слуга отчизне, отец солдатам!
Обманулся бандит. Кроме медалей, у полковника ничего не было. Пробовал искать, все карманы наружу вывернул – ничего! «Ах, бес поп: утал! Прости, полковник! И нам ведь жить надо…»
Следаки теперь стали нелюбопытные. Ну, грохнули одного! Что ж тут такого? Бандит, он и есть бандит. А вот на днях, девочку выпускницу изнасиловали прямо в квартире. Следаки пожали плечами: «Сама виновата! Зачем дала? Созрела, значит!»
Новая власть в МВД своих не оставляет без пайки. Зарплату повысили вдвое, да еще уголовщина им от своего фарта отстегивает. Живут, зачем им в грязи возиться? Они сами из грязи – в князи. Э-хе-хе! Вот коммунизм чем обернулся! Рановато затели его марксисты. Сначала дотянулись бы до настоящего капитализма, а уж потом…
Смотрю в начинающих проясняться рассветных далях со стороны котельной женщина идет с тазом, вроде белье полоскала. Где тут полоскать? Реки нет. Идет, оглядывается. Пригляделся, в тазу уголь. Котельная еще с позапрошлого года разморожена. А уголь сторожат. Его пока еще не пропили. Начальник котельной бдит. Обещал: кто будет воровать – вы… бу! А уголь всегда требуется. Холода не за горами, брр! Пятиэтажка, откуда только что вышел человек, обросла снизу до верху коленчатыми трбами, словно из форточек жильцы руками голосуют за своего президента, который обещает положить голову на рельсы с смотреть всед уходящему поезду.
Кстати – о рельсах. Половину запасных путей уже растащили. Легированная сталь в Прибалтике дорогая. Рельсы режут прямо на месте автогеном. У кого нет автогена режут ножовкой по металлу. Это не так трудно, как кажется: надрезают на одну треть «яблоко», верхняя часть рельса, потом резким убаром кузнечной кувалды бьют по стыку и хрупкая сталь со звоном распадается.
Лесок за станцией свое дело делать не мешает, а ночью на тележке можно хоть тонну до своего сарая дотянуть. Сарайчики за пятиэтажкой ладные. Из кирпича. Командование разрешало. Люди строили на века. Думали – детям пригодиться!
Эти трубы, это утро, эта согбенная женщина с тазом на фоне бледно-серого неба: немыслимой печали картина импрессионистов нашего поколения – мелодия распада.
Эти скребущие по асфальту листья наводят такие воспоминания, что лучше не поддаваться ассоциациям. Подобное я уже видел в своем младенчестве – Война!
ДОРОГОЙ ДЯДЯ РЕДАКТОР…
или с любовью из Украины
Живёт-обывает в сопредельной с нами незалежной стране, в сельце Воскресеновка, маленький наивный хлопец Николка – колядник, щедривник, посевальник, и вообще гарный человечек. Живёт с мамкой в маленькой мазаной глиной хате, чистенькой, белёной голубоватым раствором гашёного карбида. Этого карбида у приезжего сварщика Михася целый жестяной барабан будет.
Михась тот, тоже гарный хлопец. Настоящий парубок: пшеничный оселедец на лобастой, бритой, круглой и крепкой, как перед Николкиной хаткой голыш-камень, голове, усы хоть ещё и жидковатые, но уже свисают двумя косицами с толстой губы, привыкшей держать изогнутую по куньи, трубку-смологонку – настоящую люльку, пропахшую ядовитым махорочным дымом.
Михась квартировал у них в хатке всё лето и Николка пробовал пососать этот деревянный гостинец. Никакой сладости, только голова закружилась.
Михась приехал из Галитчины к самому пану Леху, фермеру из братской Польши, помогать ему возводить хозяйственные и складские постройки на месте сгоревших в одночасье колхозных ферм.
Дом у пана огромный, на два этажа, четыре злющие собаки на четыре угла дома, видеокамеры зорко из-под козырьков смотрят на дорогу, не заехал бы кто невзначай в гости…
Пан Леха, местные называют его по москальски – Лёха, чтобы земля не зарастала дурнотравьем, прибыл помочь селянам в их нелёгкой крестьянской доле; взял в аренду чернозёмы и теперь выращивает для своих заводов в забугорном крае сахарный чудо-бурак, такой породистый, что и говорить нечего. Гнать из него горилку – милое дело!
За работу пан с бывшими колхозниками расплачивается тоже бураком. А, куда мужику этот чудо-бурак девать? Знамо дело, некуда! Вот и приходиться перемалывать его на горилку. Горилка з перцем – хорошее дело! Дёшево и сердито!
Сам пан Лёха, когда ему поднесли на рушнике чарку вёрткие молодухи, пробовал той горилки, да не пошла она ему в горло, вышвырнулась. Прилюдно конфуз вышел, насилу отсморкался пан-хозяин и прогнал молодеек со двора. Сказал, чтобы приходили под хмару, но только без горилки, у него у самого наливок полный погребец, одному пить – мочи нет!
Рабочих у пана много, а сварщик один. Он специалист. Сваривает металл с металлом, как штаны штопает – строчка к строчке.
Попросился Михась к Николке в хату на постой, мамка его и пустила. Ничего – в тесноте да не в обиде! Михась денежек за постой заплатил сразу на весь срок, поэтому учебники на этот год у Николки куплены свои.
Учится этот малой хлопец хорошо. Пусть Николка ещё пока не парубок, но он им будет – ей Богу! Усы станут похлеще, чем у Михася, а вот трубку он в рот брать не будет. Не дурак совсем, чтобы в грудях дым хоронить…
Михась ему друг. Помогал белить хатку со всех концов. Николку мочальная кисть плохо слушалась, поливала едучей карбидной гашёнкой, смывала глину со стены, а у Михася махровая кисть в руках была послушна, и сама металась по стене хатки, как озорная маленькая обезьянка, которую Николка видел однажды в киевском зоопарке, куда прошлое лето ездили на экскурсию всей школой.
Мамка могла бы тоже помогать Николке, да она слегла, – болеет, как только папка их покинул, смахнув с вешалки свой модный из померанцевой кожи жупан.
Ему бы, маленькому украинскому хлопцу, бежать за папкой, ухватиться за жупан и не пускать, а он возле мамки сидит, тихий и слёзы на глазах.
Мамка у Николки красивая, умная. Когда она не болеет, то всегда поёт одну и туже песенку про кошку, грустную-прегрустную: «У окошка сидит кошка, к ней подходит бригадир: – Иди кошка на работу, а то хлеба не дадим!». Попоёт, а потом плакать станет. Руки у мамки мягкие, тёплые. Под ладонями мамки до того хорошо и сладко, что Николка, как маленький котёночек жмурится и трётся о них своим личиком, тоже влажным от недавних слёз.
Мамка училась в большом русском городе на школьного учителя литературы и русского языка. Потом работала, выращивала из бестолковых, орущих в разнобой украинских пацанов, отцы которых делали ракеты и покоряли Енисей, настоящих парубков. Да не все дорожки ведут к Храму. Некоторые мальчиши-плахиши на распутье повернули не в ту степь – попали в услужение к буржуинам, в Раде сидят, пишут законы ломом по воде. И ничего, не подмокают, сухими выходят. И тогда дела сами собой поворачиваются к буржуинам лицом, а к народу задом. Вот как!
Теперь мамка не работает. Русский язык новые власти запретили, и пришлось мамке в своей школе уборщицей стать. А, как мамка захворала, так её новый директор, из жёвто-блакитных, сразу же и уволил.
Теперь в семье денег совсем не осталось. Электричество обрезали за неуплату. Сидят в потёмках. Мамкина пенсия по болезни маленькая, только и хватает на керосин в лампе, чтобы Николка мог по вечерам книжки читать. Охочий он до книг. Они с мамкой читают вместе. Потом долго разговаривают. Мамка тяжело при этом вздыхает. Она говорит Николке, что знала в большом русском городе местных писателей и дружила с ними. Ходила на их выступления. Сама пробовала писать стихи и носила в хороший чудо-журнал «Подолье», что значит равнина, степь… «Помнишь песню, – спрашивала мамка, – «Степь да степь кругом?..»
Как не помнить! Николка много песен знает, ему Михась тоже напевал какие-то странные песни, «железный рок» – говорил. Но слов тех Николка не запомнил, нехорошие какие-то слова! А вот – « Поле, русское поле, я твой тонкий колосок…» помнит наизусть. «Московские вечера» ещё…
Много знает украинских песен. А, может, они тоже русские, но с украинским напевом – «Маруся, раз, два, три калина! Чернявая дивчина в саду ягоду рвала!» Эту песню он слышал от солдат, которые однажды маршировали по Воскресеновке на учениях, как мамка говорила.
А ещё ему нравятся стихи Тараса Шевченко – « Реве та стогне Днипр широкий. Сердитый ветер завыва, до долу вирби гне высоки, горами хвылю пийдима…»
Теперь зима. Брррр! Холодно в хате. Лозинки, которые Николка принёс целую охапку, давно сгорели. Хлопец завернулся в мамкину шаль и сидит у окна. Вечер зимой длинный. Кажется, с утра только встал, а уже темнеть начинает. Скушно. Михась уехал на зиму в свою Галитчину. Пан Лёха отправился на северный берег Австралии. Там чудо-климат. Зимы никогда не бывает. Николке бы там тоже зимовать, а не зябнуть здесь у окна. Николка бы уехал, спрятавшись в багажных коробках пана, да мамку оставить не с кем, жалко мамку. Вон она лежит на постели и тихо вздыхает. Жалко мамку до того, что сердечко сжимается, вот как жалко. Всё бы для неё сделал, только бы она не плакала.
Ей бы что-нибудь почитать вслух, да нечего. Папка все книги с собой забрал.
Сидит славный наивный украинский хлопец у окна и смотрит туда, в лесок за речкой, где белая метель из очёсов пряжу прядёт, да белое полотно ткёт и расстилает. На полотне иногда вспыхивают голубоватые искорки – мамка говорит, что это заяц учиться спички зажигать. Охотники спички растеряли, а заяц их подобрал и вот чиркает по ночам. Балуется.
И-эх! «Чому я ни сокил, чому не литаю? Чому мине, Боже, ты крылья не дав? С земли б я поднялся, тай в небо взлетав…» – опять вот припомнились чудо-стихи!
Что бы такое сочинить, чтобы мамка плакать перестала? Может, колядки, или щедривки, Рождество завтра. Праздник Света Господа нашего Иисуса Христа.
Николка иногда стихи пробует сочинять. Мамка говорит, что это детская желание говорить в рифму, просто графомания, но он такого слова сроду не слышал, а мамка объяснять не стала.
Стихи Николка пишет по-русски, на мове у него плохо получается, не складно и ошибок много, а вот посевальники на святки, или колядки со щедривками хорошо получаются. Он даже завтра попробует по хаткам сходить со своими колядками. Пропеть их по-украински, по москальски нельзя, полицейский в участок посадит, тогда, кто будет за мамкой ухаживать, печь топить, бураки парить. Пан Леха целый воз бураков подарил им с богатого урожая. Богато – это хорошо! Каждый день можно пряники есть, и даже булочки с молоком. Молочка хочется, да коровок всех на селе порезали. Пасти негде. Пан Леха не разрешает. Там его земля теперь. Поля бескрайние.
Вот сочинит Николка несколько щедривок, пропоёт их куме Марье, куму Ничихайло, крёстному своему дяде Петру. Дядя Петро мужик простой, когда выпьет. Крестник ему щедривку пропоёт, глядишь, и гривну в ладонь даст, сальце отрежет ломоть…

