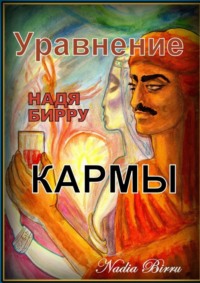Полная версия
Преображение
Время от времени Саша снился ей, а после возникал неожиданно: вот, в кожаной куртке, повзрослевший и возмужавший, подошёл и приложился к иконе, возле которой она стояла на коленях, а затем вошёл в алтарь… На Рождество, когда Надя самая последняя попала на исповедь и опоздала к Причастию, и вот стояла у ступеней, ведущих на солею, заливаясь слезами, – дверь в алтарь распахнулась, и вышел отец Василий, а с ним, с правой стороны Саша, держа край плата…
От Веры она узнала, что Саша и Алексей учатся в духовном училище во Пскове.
В эти короткие встречи Маша чувствовала, как он изменился. Он больше не бегал за ней по пятам. Иногда, точно испытывая себя, нарочно проходил мимо близко, почти касаясь, и её уже не обдавало душной волной. «Ну, слава Богу, успокоился!» – радовалась она.
Неисповедимыми путями Господними она начала петь в профессиональном хоре, и очень скоро сделалась основной опорой регента. Вместе с ней пришли ещё двое певчих – Марина и Ираида. С последней они очень скоро стали закадычными подругами, хотя Ираида, работавшая педагогом в музыкальной школе, была значительно старше. На буднях чаще всего пели втроём – Коля – тенор, Мария – альт и Георгий – бас. Эти каждодневные службы были для неё и радостью, и мукой. Несмотря на сильный и красивый голос, на абсолютный слух и музыкальное образование певческая премудрость давалась ей с трудом. С Колей, страдавшим алкоголизмом, отношения сложились непростые. Он то восхищался ею и её голосом, называл принцессой, то страшно ругался и изводил её бесконечными придирками. Если он был в голосе и в хорошем настроении, их голоса сливались, звуча вместе мощно и в то же время трогательно.
У Коли был красивый сильный баритон, у неё – глубокий грудной альт, поражавший слушателей затаённой мощью – точно вздымающиеся в океане волны. Когда они вместе пели Литургию, это было наслаждением для них и для молящихся. Нередко растроганные пением люди подходили после службы поблагодарить.
Но пьяный он столько раз оскорблял её, что она убегала с клироса, измученная его грубостью и «обнюхиванием», а иногда и придирками его ревнующей и больно жалящей жены. Временами на клиросе было так трудно, что если бы Господь не посылал свои тихие маленькие утешения, то и вовсе было бы невозможно и надо было бы бежать без оглядки.
Впрочем, петь вдвоём с Людмилой, если та давала удобный тон, доставляло ей удовольствие. Но удобный тон регент давала редко, и обычно пение на клиросе было для Маши – кровь и слёзы. Очень выручал её Георгий. Это был спокойный тихий мужчина примерно Машиного возраста, который одно время служил в соборе дьяконом, но не вынес соблазнов, запутался и ушёл в какую-то секту. Потом вернулся, но не вполне оправившись от своих заблуждений и – в качестве певчего. Впрочем, человек он был хороший, семейная жизнь его складывалась не особенно удачно, с работой в то время тоже были проблемы, так что, встречаясь каждый день на клиросе, они с Машей сошлись довольно близко, можно сказать, даже подружились. После службы, когда батюшка отдыхал в алтаре и готовился служить панихиду, они потихоньку беседовали о своём.
– Как эта Людмила к тебе придирается, как ты только терпишь!
– Ну, Георгий, что-нибудь терпеть обязательно надо… Мне вот, например, больше без танцев тяжело. Я раньше очень любила танцевать, и это занятие мне давало много радости. Опять же – и для фигуры полезно.
– А что теперь?
– Ну, я после первого поста сразу чуть не на Пасху потанцевала, а потом пришла к батюшке и спросила, а он сказал…
– А он сказал: «Нельзя, грех», да? Да не слушай ты их! Я раньше тоже был таким дураком. Думал, все батюшки святые… А что они могут? Пойдёшь к батюшке, он тебе скажет: терпи, молись, смиряйся, подохни от рака.
– Эх, ты, заблудшая овечка! – произнесла она с жалостью и лаской одновременно. Георгий сразу смягчился, улыбнулся смущённо:
– Ты, наверное, думаешь, что я такой безбожник, вообще злодей.
– Нет, почему? Есть люди, хотя и неверующие, но очень хорошие. Я лояльно к этому отношусь.
– Да, я верю, но вера моя другая. Только ты никому не говори. А человек я очень хороший.
– А знаешь, это сразу заметно, что, хотя и верующий, но не православный. Я, когда тебя только увидела, сразу подумала: секта.
Коля, застав их в подобной дружеской беседе, временами ревновал и приставал в перерывах между пением: «Ты чего такая весёлая? Юрку увидела?.. А ты чего улыбаешься? Машку любишь? Смотри, стоят рядом и улыбаются!» С Георгием, как когда-то в Киеве с двоюродным братом, она могла говорить практически обо всём. Он хорошо понимал и то, что она ему говорила, а также то, что оставалось недосказанным. При этом отношения с ним были очень спокойные, лишённые чувственной окраски, и это было так приятно, так целительно…
Но вот и Пасха. Первая Машина Пасха как певчей. Какая радость! Какое ликование переполняло душу, которая рвалась из тела в небеса. Она отпела ночную службу, а утром, принарядившись по-праздничному, отправилась в свой храм – поставить свечу, посмотреть, как убрана к празднику эта маленькая милая церквушка, послушать сладкий пасхальный перезвон. Это было удивительно: но после долгой ночной службы, поспав всего два-три часа, она чувствовала себя свежей, исполненной сил и энергии, и одновременно лёгкой, бесплотной. Рука, занесённая для крестного знамения, казалось, сама собой взлетала вверх, как наполненный гелем воздушный шарик. В ушах звучало самое прекрасное песнопение ночи: «Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи…» Ионафана.
Службы не было – настоятель, отец Виталий, служил ночью, – но в храме было оживлённо. Сновали служащие, инокиня мать Таисия с радостным лицом расставляла цветы. На чистом полу играли солнечные блики. Маша купила свечи и ставила их к иконам, когда услышала с крыльца знакомый голос:
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! Когда приехал?
– Да вот только утром, побывал в соборе, – отвечал Саша, – заглянул к вам. А где отец Виталий?
– Ты отца Виталия не видела? – обратилась мать Таисия почему-то к ней.
– Нет.
Она сказала только одно слово, но стоявший на крыльце и до этого момента невидимый для неё Саша тут же вошёл в храм, точно его потянули за невидимую верёвочку.
Вечернюю службу они пели вместе. Всё шло как обычно. Георгий всё время или стоял, или в перерывах между пением сидел рядом с Машей. Иногда они о чём-нибудь тихонько переговаривались. Все к этому уже привыкли и не обращали внимания, но для Саши это оказалось новостью.
На следующее утро после Литургии регент Людмила пригласила Колю, тенора Леонида Михайловича и Марию на поминки – очередную годовщину со дня смерти отца. Настроение у всех было праздничным и, по сути, поминки были только поводом собраться. Коля, повинуясь капризам своего зависимого от алкоголя характера, нагрубил Людмиле и Леониду Михайловичу, поссорился с ними и удрал, хлопнув дверью. Марию послали за хлебом.
– Не закрывайте дверь, – предупредил Леонид Михайлович своим мягким интеллигентным голосом, – сейчас Саша придет.
Она бежала за хлебом радостная и беззаботная, как девчонка: теперь, когда он успокоился, её радовала предстоящая встреча, ведь они знали друг друга уже много лет, пережили трудные времена…
Он пришёл в своей любимой белой рубахе, как всегда, оживлённый и улыбающийся, и, едва переступив порог двери, объявил:
– А есть-то как хочется! Да, как трудно бороться со своим животным началом.
Маша тихо улыбнулась, отвернувшись в сторону. Ей казалось, она поняла тайный смысл его слов. В маленькой двухкомнатной квартирке с крошечной кухней и коридорчиком он был слишком близко, но Маша больше его не боялась.
Был прекрасный солнечный весенний день. В раскрытое окно врывались звуки с улицы, на подоконнике ворковали голуби. Маша заговорила о самом простом – Саша слушал её с преувеличенным вниманием. Вскоре Людмила, как подобает хозяйке, взяла инициативу в свои руки. Леонид Михайлович пристроился в кресле, Людмила на стуле, а им вдвоём отвели место на диване.
Хозяйка с воодушевлением рассказывала о паломнических поездках, Саша – о Пскове, о своей учёбе и особенно увлечённо – об Оригене. Он сидел, опершись на спинку дивана и широко раскинув руки, так что Маша чувствовала себя окружённой им со всех сторон, но в этом не было уже ничего плохого – не было страстного, а было тёплое, дружеское… Так ей казалось. Слушая Сашу и одновременно прислушиваясь к себе, она ловила себя на том, что ей хорошо, весело и спокойно, а ещё приятно чувствовать себя маленькой и хрупкой рядом с сильным мужчиной. Сказано, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, что тот, кто во Христе – новая тварь, но до этой меры надо ещё дорасти. Время от времени поднимали бокалы. Маша не пила, и никто не заставлял, только Леонид Михайлович сказал с улыбкой:
– Первый раз вижу женщину, которая так мало пьёт.
– Ну, вот и посмотрите, – парировала она.
– А я смотрю и любуюсь.
Время до вечерней службы пролетело незаметно. Вчетвером они отправились в храм, где уже собрались остальные певчие. В тот вечер она пела, как соловей, немного даже смущаясь своего сильного яркого голоса, которому, казалось, тесно было под огромным куполом храма. Было легко и радостно. Вот она и нашла свой ключик. Теперь она поняла: запретный плод сладок, и чем более она будет избегать его, стараясь быть недоступной, тем больше его будет тянуть к ней. Надо стать ближе, дружественнее, чтобы он увидел, что она – простой, обычный человек, и исцелился совершенно.
На следующий день был праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник». После литургии отслужили водосвятный молебен, и Саша в неизменной белой рубашке посреди храма разливал воду.
У Маши не было бутылки, но так хотелось попить святой воды. Она разыскала чашку, подошла сзади и попросила:
– Налей мне попить.
Первый раз она сказала ему «ты».
Время шло. Несмотря на учёбу в Пскове, Саша частенько появлялся на клиросе. Вдруг, неожиданно, над самым Машиным ухом раздавался его мощный красивый бас, а затем и сам он появлялся из темноты (если дело происходило вечером) – в белой рубахе, с неизменной улыбкой на лице. Его близкий голос, который заполнял всё пространство и которому нельзя было запретить приблизиться и слиться с её голосом, временами тревожил её. Но она быстро справлялась со своим волнением и отходила куда-нибудь в сторону.
Младший брат Саши Сергей поступил в духовную академию при Троице-Сергиевой лавре и тоже появлялся на клиросе во время каникул. Пел он тенором. Голос у Сергея со временем выровнялся и стал довольно приятным, вот только пел он по-прежнему очень громко, так что остальные певчие старались держаться от него подальше.
Появился ещё один бас – Гриша, молодой, полный, покладистый парень, талантливый и необыкновенно смешливый. Его голос был даже сильнее, чем у дьякона Андрея, которого верующие называли вторым Шаляпиным и «праздничным дьяконом». Несмотря на высокий рост и внушительные габариты, дьякон Андрей был ещё очень молод. На Пасху он любил приходить на клирос, дарить певчим яички и христосоваться, подставляя свои нежные, точно у девушки, пухлые щёки. Взяли нового регента – эстонку Ксению, только что получившую диплом регента. И вот когда вся эта кампания собиралась на клиросе, здесь поднималось невообразимое веселье, а хор звучал потрясающе мощно. Но веселиться вместе только во время службы для этой молодёжи было недостаточно.
Во время летних каникул Саша подружился с одной из певчих – Мариной и новым регентом Ксенией. Регентовала Ксения неважно, пела и того хуже, но в остальном была милой и весёлой девушкой. Марина была порядком постарше, но выглядела очень хорошо, обладала острым и насмешливым умом, разговор её был боек, и она с удовольствием проводила время со своими молодыми друзьями. После службы домой они уходили втроём.
Но идиллия продолжалась недолго. Довольно скоро Саша стал появляться только в обществе Марины, а Ксения убегала после службы точно ошпаренная. Маша со стороны наблюдала за Сашиными похождениями, и временами ей казалось, что только она одна понимает, что происходит на самом деле. Жаль было Ксению. Жаль было и Марину, которая, казалось, не на шутку увлеклась весёлым молодым парнем, а между тем было ясно, что у него теперь только две дороги: либо монашество, либо – женитьба на девственнице и – священство. А Марина уже несколько раз была замужем.
– Женишься? – как-то спросила Людмила прямо на клиросе. Саша стоял рядом с Машей, и она невольно перевела на него взгляд. Он неопределённо пожал плечами.
Как-то после службы Маша и Георгий вместе возвращались домой, и Георгий неожиданно заговорил о Саше.
– Голос у него, конечно, хороший, но петь с ним одну партию мне удовольствия не доставляет.
– Да? А почему?
– Знаешь, он какой психованный? И вообще грубый. Тут я ему на днях задал простой вопрос, даже точно не помню, какой: то ли «придёшь вечером?», ну, чтобы мне самому не приходить, а он, знаешь, что сказал?
– Что?
– Не твоё собачье дело!
– Да ты что!
– Да! А ты знаешь, что он вообще раньше был наркоманом?! Его отец Сергий вытянул и на ноги поставил.
– Ну, раньше… – Маша примолкла, удручённо. Трудно было поверить, что Саша подобным образом разговаривает с Георгием. – Все мы откуда-то пришли в храм. Не от счастливой жизни. Сейчас даже вспоминать не хочется.
Летом певцов на клиросе было много, особенно мужских голосов, так что иногда они высказывали желание петь службу мужским составом. Воспользовавшись такой ситуацией, Маша отпросилась у регента и на несколько дней и уехала в Пюхтицу.
Как хорошо и спокойно было в монастыре. Никакие житейские бури и страсти не проникали за толстые старинные стены. Хорошо было молиться в чистом высоком храме, присоединяя свой тихий голос к высоким голосам поющих сестёр. Хорошо было ходить на послушание, знакомиться с верующими, которые со всех сторон приезжали отдохнуть душой в этот райский уголок. Хорошо было вновь встретить старых добрых знакомых – матушку Зиновию, матушку Феодосию, которые за все эти годы стали как родные.
– О, приехала Мария! А где Владимир?
А у Владимира всегда находилось тысяча дел в монастыре и столько же мест, где он должен был побывать и поучаствовать в общем труде. То он появлялся с рабочей тележкой, то мокрый с ног до головы, потому что только что усердно помогал поливать теплицы, то приносил маме кусочек пахучих сот с мёдом – угощение монахини за оказанную услугу.
Как-то после обеда Маша убирала столовую после общей трапезы. Был солнечный тихий день в начале августа. Вокруг был разлит небывалый покой и послеобеденная тишина, не нарушаемая никакими звуками. Солнечный свет падал из маленьких окошек на старенькую клеёнку, которой были покрыты сдвинутые вместе столы. Вытирая эту клеёнку, Маша испытала вдруг странное чувство: как будто всё это уже было однажды – и эта тишина, и этот солнечный день, и запах постной пищи, и не так – не на мгновенье, не на несколько дней, а как будто она когда-то жила в монастыре долго-долго…
В первое же воскресенье по её возвращении на клиросе царило необычайное оживление. Опять Саша всех баламутил, звал пойти на речку, отдохнуть на природе, попеть романсы. Его белая рубаха мелькала то здесь, то там.
– Можно взять с собой детей! – призывал он.
– А что, Мария, может быть, пойдём? – воодушевилась Ираида. Похоже, Сашино красноречие и энтузиазм подействовали и на неё. Маша улыбнулась понимающе, на минутку призадумалась, а затем отрицательно покачала головой. Лишние волнения ей ни к чему – измученному сердцу хотелось одного – покоя. Пусть веселятся без неё. – Вы идите, если хотите, а мне хочется домой.
Сергей тоже попытался её уговорить:
– Пойдёмте, а то как же мы без вас петь будем?.. А там и солнце, и речка, и мы!
– Нет, Серёжа, это не моё, я люблю дома, с книгой.
Таким образом она проигнорировала и первый, и второй поход, хотя весёлая компания поджидала её на улице.
Как-то после спокойной вечерней службы Маша последняя сошла с клироса. Когда она выходила из храма, Марина и Ксения были уже в воротах и поджидали Сашу, который при её появлении склонился зашнуровать ботинок. Она как раз проходила мимо, когда он вдруг запел во весь голос:
Скажите, девушки, подруге вашей,
Что я ночей не сплю, о ней мечтая,
Что всех красавиц
Она милей и краше,
Что сам хотел признаться ей,
Но слов я не нашёл.
Очей прекрасных
Огонь я обожаю,
Скажите, что иного я счастья не желаю,
Что нежной страстью, как цепью, я прикован,
Что без неё в душе моей тревоги не унять.
Когда б я только смелости набрался,
Я б ей сказал: «Напрасно ты скрываешь,
Что нежной страстью сама ко мне пылаешь,
Расстанься с хитрой маскою и сердце мне отдай…
Она быстро пошла вперёд, но его голос летел вслед, точно преследуя её. Маша чувствовала, что он поёт для неё – и это откровенное признание пугало и шокировало её, а он, несмотря на шутливый протест своих барышень, уже начал следующий романс, причём голос его становился всё громче по мере её удаления:
Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлёт надежды и спасенья,
Всё прошлое я вновь переживаю
Один в тиши ночей…
Когда она ушла на порядочное расстояние, голос оборвался. «Так вот какие романсы петь ты звал на речку!» – она чуть не плакала от досады и смятения. Скорей бы он уже уехал, что ли! Слишком уж неспокойно, когда он здесь.
Мне плохо, и я хочу написать тебе письмо. Совсем маленькое. Много раз в моей жизни я «отворачивалась» от тебя, увлекаясь кем-то другим. И вот опять! Но теперь я этого не хочу.
Я так молилась, чтобы он успокоился! И вот сейчас он спокоен, ни к чему не придерёшься, зато неспокойна я сама. Раньше я вообще была такая, моё «я» постоянно играло в эту игру. Сейчас я вне этого и вот только в отношении этого одного человека…
Помоги мне, любимый, помолись за меня! Я не хочу думать ни о ком, кроме тебя. Я знаю, теперь знаю, как это больно и как неправильно. Услышь меня и помоги мне!
Не разлучайте нас, чужие голоса,
Не разделяйте нас,
лучи ненужных взглядов,
когда для нас отверсты небеса,
И ничего нам вашего не надо.
Единство замкнутых и спаянных кругов
И навсегда пересечённых линий,
И общих снов,
И несказанных слов, —
Не разбавляйте нас своей судьбой, другие!
Я навсегда, всегда тебе верна,
Такой живу, такой хочу остаться,
А для других – стена, стена, стена,
Им никогда до нас не достучаться.
Не разлучайте нас, чужие голоса,
Не разводите нас, чужие руки.
Наш каждый стон учтён на небесах
И вздох благодарения за муки.
Любовь не умирает. Она ни капельки не убыла с тех пор. И теперь, столько лет спустя, я люблю тебя ничуть не меньше, а может быть даже больше, потому что теперь я знаю то, чего не знала тогда: я не забуду тебя никогда.
Наступил Успенский пост, а с ним один из красивейших двунадесятых праздников года – Преображение. Маша так любила этот праздник: с верхнего клироса церковь в праздничном убранстве казалась невестой. Огненными букетами пылали исполненные свеч подсвечники перед иконами, яркая толпа народа заполнила храм, перетекла в пределы. А в центре, перед праздничной иконой красовались столы, сплошь уставленные корзинами и тарелками с фруктами. Были здесь и налитые соком виноградные гроздья, и яркие нектарины, и вызывающе алеющие в солнечном свете помидоры, и, конечно же, яблоки, ведь недаром в народе это праздник зовётся Яблочным спасом. Маша тоже взяла корзинку отборных яблок из собственного сада, чтобы освятить и угостить певчих. После службы она быстро слетела вниз, схватила свою корзинку и сразу вернулась наверх, где певчие убирали ноты в шкафчики по партиям. Все обрадовались угощению, брали яблоки, хвалили их вкус, благодарили хозяйку. Только Саша, обычно такой бойкий и находчивый, отошёл к проёму и что-то высматривал внизу, в храме. Маша окликнула его, первый раз назвав по имени. Он тут же обернулся, подошёл и скромно взял одно яблочко.
– Бери ещё!
Праздничное настроение сохранялось и на вечерней службе. Пели на нижнем клиросе. Пристроившись напротив, Саша почти не отрываясь смотрел на неё с какой-то новой улыбкой, которая, говорила: «Ага, попалась, лёд тронулся!» После службы она, как обычно, осталась на клиросе, выслушала проповедь и, по своему обыкновению, уходила последняя. На скамейке оставалась только её маленькая сумочка, рядом с которой лежала красивая спелая груша. Маша взяла грушу с задумчивым видом. Спросила Ксению, Марину – нет, они ничего не знают, сами не угощали и не видели, кто положил. А Саша уехал в Пюхтицу. Следом за ним на выходные уехала и Ксения. На время жизнь вошла в обычную размеренную колею.
Без Саши было хорошо, спокойно. Жизнь шла своим размеренным ходом. Мария уже много лет ходила в храм, почти полгода пела на клиросе. Теперь, по прошествии лет, она стала замечать в себе, что во многом осталась прежней. В ней под строгой и даже печальной внешностью было скрыто столько веселья и озорства! И когда она чувствовала себя свободно от постороннего повышенного внимания, это веселье легко прорывалось наружу. А вместе с ней, как это всегда было и раньше, начинали веселиться остальные. Спевки в нижнем храме проходили тогда легко и весело. Регент снисходительно смотрела на эти забавы.
Близилось время окончания училища. Прошли слухи о Сашиной женитьбе. Сначала он приехал один. Совершенно неожиданно, как это бывало не раз, появился вдруг на клиросе, пару раз взглянул украдкой. Вот это, украдкой, только и сказало что-нибудь, во всём остальном он вёл себя безукоризненно, только был непривычно тих и неразговорчив, со всеми ровен, в разговоре со Светой – бойкой и симпатичной молодой певчей, с которой их связывало очень давнее, со школьной скамьи, знакомство, – вскользь заметил, что начались какие-то проблемы с сердцем. В остальном на клиросе всё шло, как обычно: регент ругала певчих, певчие дружно переговаривались, тенора по своему обыкновению шутили с альтами. «Ну, что альты, замёрзли?» – спрашивал Леонид Михайлович, когда после спевки в нижнем холодном храме перешли петь на клирос. – Можно потрогать? – он протянул обе свои руки и взял Машины руки. Шедший сзади с нотами тенор Владимир громко констатировал:
– Вот какая дружба! Альты лучшие друзья теноров!
Послышался дружный смех и шуточные комментарии. Саша молча стоял рядом и не участвовал в общем веселье. Пробыл он в этот раз совсем недолго, дня два. Его молчание и серьёзность были столь непривычными, тягостными, что, когда он перед отъездом последний раз был на клиросе, Маша сама спросила дружески: «Ну, что, поехал?», но он в ответ только сделал резкую недовольную гримасу. Вскоре он привёз Лену. Будущая жена оказалась спокойной, не очень симпатичной и не слишком юной, но милой, скромной и располагающей к себе. Говорили, что сразу после свадьбы его рукоположат в дьяконы и заберут в Таллинн. У Марины началась депрессия. Ксения оказалась умнее, она заранее вышла из игры и завязала знакомство с другим парнем – чтецом из маленькой церкви. Маше было искренне жаль Марину. Видимо, та испытывала к Саше нешуточные чувства и, введённая в заблуждение его вниманием, надеялась на что-то до последнего. Теперь Марина приблизила к себе младшего брата Саши, Серёжу, и тот ходил за нею везде, как адъютант. Но и Лена только в первый день выглядела оживлённой, а потом стала грустной и озабоченной.
Вечером на спевке, пока другие готовили ноты, Маша и Ираида взахлёб беседовали. Виделись они в основном в храме, и им всегда не хватало времени обо всём поговорить. Неожиданно в их разговор вмешалась Марина – резким и не свойственным ей тоном она сделала неуместное замечание.
– Слушай, Марина, что ты вмешиваешься в чужой разговор? – поинтересовалась Маша.
– Да что ты, Маша?! – воскликнула та так громко, что на минутку все обернулись к ним. – Мы же все из одного хора! Что, у нас тут объявилась такая священная корова Маша?!
Позже, уже в храме, когда перед службой ставили к иконам свечи, Марина подошла к ней и тихим, обычным своим голосом извинилась за бестактность. «Боже мой, какие страсти! – подумала Маша, – и всё из-за этого человека!»
Сам Саша стал замкнутым, суровым, начал к месту и не к месту проявлять характер. Из-за обиды на регента отказался прийти на службу, стоял один на нижнем клиросе, в то время как все певчие, в том числе и его молодая жена, пели наверху. «Сашка, Сашка!» – звала его Света комично-громким шёпотом, размахивая руками. Но он не обращал внимания. Это был сильный, упрямый характер, капризно противоречащий своим желаниям для того, чтобы сделать больно другому. Но больно в первую очередь было ему самому. Регент послала за ним чтецов: