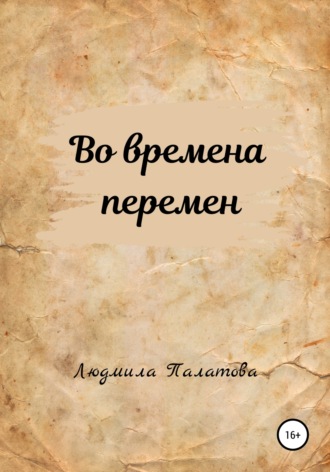 полная версия
полная версияВо времена перемен
В ординатуре нас обогатило еще одно знакомство. С.Ю. консультировал профессора-физика Марка Осиповича Корнфельда. У него были проблемы с кишечником. Обследование в крупных клиниках и Кремлевке картины не прояснило. За границу выхода не было – М.О. был атомщиком, делал аж водородную бомбу. С.Ю.рассказал нам, что он был сиротой, беспризорничал, школу не закончил, поступил лаборантом в университет, одновременно проучился в нем 3 года и соскучился. Не имея дипломов ни о среднем, ни о высшем образовании, он защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. И только когда его выдвигали в академию, выяснилось отсутствие документов.
Основным местом его работы был Институт полупроводников в Питере под началом А.Ф.Иоффе. На производство оружия возмездия он был направлен куда-то далеко. Прямо возвращаться домой было сложно – 1951й год. И у этого светила была «инвалидность по пятому пункту». В Пермь он попал, как на перевалочный этап, в университет. Всю его историю я знаю только понаслышке, поэтому за точность не ручаюсь. С.Ю. вместе с зав. кафедрой рентгенологии Г.И.Рыловой нашли-таки место препятствия и врожденную патологию в его кишечнике. М.О. решил оперироваться у нас. Как полагается ученому, он сначала провел исследование: ходил в операционную и смотрел, как делают операции, после чего объяснял нам, что атомная физика вообще-то ерунда, а вот аппендицит! Это да! «Как они кишки обратно опускают и говорят, что они там сами разберутся».
Марк Осипович привлекал нас совершенно нетрадиционным поведением и образом мыслей. Начинать надо с «вешалки». Одежда была принципиально спортивная – надо только было видеть лыжный костюм, вязаные кофты и вязаные же шапочки с помпоном – традиционный прикид тогдашних физиков. И это в официальной обстановке на ученом совете. Когда он пришел первый раз в наш университет, дверь на кафедру оказалась запертой. Дядю в лыжном костюме никто за профессора принять не мог. М.О. свистнул в четыре пальца, сбежался народ, в том числе и лаборантка с ключом. Познакомились. Дверь открыли. Началась работа.
Сидя по-турецки в палате, он излагал нам причины, по которым лопается мыльный пузырь. Эта задачка, решенная для чистой развлекухи, стала основой в производстве автомобильных шин. Дело оказалось в процессах трения. Нам, «чешуе», как нас поддразнивали старшие, было невероятно интересно слушать его байки. Как-то он рассказывал, как в юности решил поехать на юг с минимальным финансовым обеспечением. Дневной рацион он рассчитал с научным подходом: 70 граммов белка – одно яйцо, 200 граммов углеводов – 2 куска хлеба, витамины – пучок зеленого лука. Уложился в отпускные, даже в море плавал. Перед операцией он просил нас поприсутствовать для поддержки. Я была в другой операционной и пришла, когда М.О. уже проснулся. Он открыл глаза, увидел меня и громко заявил:
– Девочка! Ну, зачем же ты пришла? Я же собирался за тобой ухаживать, а ты видела меня раздетым до внутренностей! – Согласитесь, что отхохмить на операционном столе может не каждый. А потом он продолжил:
– Закончили? Орлы!
Послеоперационный период прошел гладко. Университет предоставил М.О. отличную четырехкомнатную квартиру в новом доме научных работников, так замечательно описанном в книге Н.Е. Васильевой «Дом». Нас туда пригласили в гости. За неимением мебели, уселись мы всей группой на полу и слушали новости из физики, географии, новейшей истории, понимая, что долго это продолжаться не может. Профессор стремился домой, и вскоре уехал в Ленинград. И некому стало помогать нам с научными приборами.
А наука на нашей кафедре потихоньку набирала темп. С.Ю. находил все новые темы. Так, он первым в стране описал синдром Элиссона-Цоллингера на двух больных. В редакции журнала «Хирургия» сочли статью неактуальной и вернули назад, а через номер напечатали сообщение на ту же тему из центральной клиники, но на одном случае. Тоже нам наука: берегись сильных мира сего, палец не показывай – всю руку откусят. Надо особо отметить, что С.Ю. был предельно добросовестен в исследованиях. Нельзя было даже предположить, что в материалах появится малейшая подтасовка. Это, кстати, характерно для публикаций из ВМОЛа, откуда он и происходил. Я все чаще вспоминаю учителя, когда вижу, как наши шустряки хватают приличную, лучше иностранную, статью, подставляют свои цифры, бывает и среднепотолочные, и в одно касание выдают «научную продукцию». У П.А.Герцена за всю жизнь накопилось всего 70 статей, но все их он написал сам. И был Герценом. В прошлом тысячелетии наши учителя, написав первый вариант статьи, прятали ее в нижний ящик стола на 2 – 3 месяца, а потом читали, удивлялись, какой дурак так написал, правили, снова откладывали и печатали, когда были уверены в качестве.
На втором же году ординатуры по плану у меня была травматология. Отделение на 30 коек под руководством Захара Семеновича состояло из врача Вали Зубаревой, сестры, гипсового техника и санитарки. Я была дополнительным персоналом. Мне же и пришлось заведовать на общественных началах. Жили мы очень дружно. На 4 месяца к нам прикрепили стажера, так что операции были обеспечены кругом начинающими хирургами. Со стажем была только сестра. Она прибыла к нам из лагеря. Начала она с того, что во время обхода похвалилась:
– Я больному вечером от боли после операции «пурамидон» (pyramidon) дала, а «пелицилин» разводила из графинта, не из под кранта. – Мы поинтересовались, чем она разводила его раньше. Оказалось, что водой из колодца. Пробыла она у нас недолго.
Первое время я не раз отличалась в операционной. Как-то мне поручили зафиксировать локтевой отросток после его отрыва. Я уложила руку больного на приставной деревянный столик. Взяла сверло, примерилась и начала вводить спицу. Получалось хорошо, спица шла под правильным углом. Я провела ее через костную ткань на нужную глубину, разогнула руку, а поднять ее не смогла. Мой помощник сообразил раньше, присел на корточки, заглянул под стол и показал мне торчащий там конец спицы.
Однако время шло, и я набиралась опыта. К концу года меня научили делать остеосинтез, в том числе и шейки бедра, резекцию коленного сустава, сухожильные и костные операции по поводу косолапости, артродезы и артроризы, операции на ложных суставах с костной пластикой – это был весь тогдашний объем плановой и неотложной травматологии, включая вправление вывихов и переломов. Операции под общим наркозом мы делали нечасто. К концу моей работы в травме была хорошо освоена внутрикостная анестезия. Ее хватало на 2 часа. Обычно этого было достаточно. Обезболивание достигалось вполне адекватное. Отрицательным моментом был жгут, который можно было держать не дольше этих двух часов, ограничивающих продолжительность операции.
Для меня этот год тоже стал подарком судьбы. Захар Семенович заставил меня прочитать все новые монографии по каждому разделу. Я публично сдавала зачеты по сегментам конечностей. На эти собеседования он приглашал всех свободных врачей и субординаторов, что и им было не без пользы. Иногда я подумываю, почему бы мне не продолжить работу тогда в травматологии? Уж она-то останется последней из большой хирургии, благодаря привычке человечества соваться везде, в том числе и туда, куда вовсе не надо. С большим удовлетворением и печалью я покидала отделение, куда уже пришла на заведование О.С.Нельзина, будущий отличный травматолог и многолетний заведующий.
Целина
В конце первого года ординатуры нас решили на 3 месяца направить на целину. «Программа» освоения целинных земель пришла в голову тогдашнему генсеку Н.С. Хрущеву. Короткая реанимация Т.Д. Лысенко по инициативе вождя, как и следовало ожидать, не принесла мгновенного роста урожаев. Эти надежды возложили на разработку обширных целинных земель на территориях, граничащих с Казахстаном. Что из этого вышло, широко освещено в литературе и воспоминаниях целинников. А нас это коснулось вот каким образом.
Весной 1954 года в ректорат вызвали ординаторов и объявили, что в план ординатуры по всем специальностям теперь входит работа на врачебном участке в целинных областях. Мы собрали вещички, главным образом книги и справочники, и отправились в Тюмень. Ехали в поезде двое суток с пересадкой в Свердловске. В Тюмени все явились в горздравотдел. Пока дожидались приема, я изучала карту области. С тоской посмотрела на просторы до Северного Ледовитого океана с двумя национальными округами – Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким – и подумала, что за три месяца можно только доехать до них и вернуться обратно.
Тут нами занялись вплотную и распределили по собственно Тюменской области. Мне достался Ишимский район. Ехали мы до него на поезде еще сутки. Был конец апреля. Дороги, естественно грунтовые, были закрыты для любого транспорта. Неистребимая бюрократия прорастает при любых исторических формациях, и она всегда абсолютно безответственна, а правая рука даже не интересуется, что делает левая. Иначе для чего нас надо было посылать в самую распутицу, когда на целине все дороги были абсолютно непролазными.
Двое суток мы ждали в Ишиме. На третий день в номер постучал пожилой (лет сорока) мужчина, представился главным ветеринарным врачом области и сообщил, что ему поручено доставить меня в село Окунево, и выезжаем мы сегодня. После этого он подхватил мой неподъемный чемодан, где преобладали книги. Я оделась. В этот раз на мне были свои новые сапожки, пошитые соседом, очень изящные и совершенно непригодные ни для каких практических целей. Взяв авоську с дополнительным грузом и попрощавшись с ребятами, я отправилась к месту назначения. По пути мой опекун сообщил мне, что поскольку дороги закрыты, мы поедем по степи на тракторе, который везет воз соломы с Алтая для прокорма скота в совхозе.
Пройдет много лет. Я поеду в Ленинград, уже в купейном вагоне, и в Вологде ко мне подсядут двое молодых людей. Я не люблю разговаривать в поезде. В нашей специальности общения более чем достаточно. И ни один трудящийся врач не признается в поездке, кто он на самом деле – жить не дадут. Попутчики попробовали было весело пообщаться. Я на контакт не откликнулась. Зашли с другого бока – поинтересовались моей специальностью. Обычно я представляюсь преподавателем литературы. А тут вдруг я буркнула «агроном». В ответ мне была изумленная пауза, а ребят как подменили. Они сели напротив, на лицах их появилась крайняя заинтересованность и они хором вопросили:
– Скажите, а как у вас с кормами?
Мне стало неловко. Я призналась, что никакого отношения к сельхознаукам не имею. Но они этой информацией пренебрегли.
– Все равно! – сказали они – Мы едем на совещание по Северо-Западу. Вы себе не представляете, что у нас делается!
И до самого Ленинграда агрономы рассказывали мне о положении в хозяйствах, о кормах, о том, что они намерены делать и говорить. Надо сказать, что я слушала их с интересом и сочувствием. И вспоминала мое путешествие на целину.
Животноводческий совхоз в Окунево был организован в лесостепной зоне, где среди пустошей попадались рощицы из чистой березы и было 5 озер. Трава в степи полностью выгорала еще в мае. Закупленный за границей породистый скот кормили тростником из озер. А весной везли солому, откуда дадут.
Вышли мы к трактору в 9 часов утра. Спутник погрузил меня вместе с чемоданом на высоченный воз с крупной соломой, на котором уже громоздилось семейство переселенцев со скарбом и детьми. В это время была объявлена очередная кампания по укомплектованию кадров на селе. Туда начали отправлять квалифицированных рабочих в качестве руководителей колхозов и совхозов, так называемых тридцатитысячников. Еще одна гениальная идея в организации производства, в результате воплощения которой появлялись в селе ничего в сельском хозяйстве не смыслящие начальники, а промышленность лишалась хорошо обученных кадров. Наряду с этой категорией, направленной в добровольно-принудительном порядке, ехали и энтузиасты по комсомольским путевкам, и авантюристы и бездельники, которым важно было получить подъемные, а там по принципу «где бы ни работать, только бы не работать».
На возу просидели мы до трех часов пополудни, после чего появился тракторист, елико можахом с крепким выхлопом, и мы поехали по Ишиму с остановкой у каждой питейной точки, а их по дороге, и не только, набралось порядком. Часов в пять мы выбрались в степь. Места, по которым мы передвигались, находятся вблизи границы с Казахстаном на юге области. В 8 часов стемнело. Полюбовались мы бархатным небом с громадными звездами, однако пора было думать о ночлеге. Проехали мы километров 25, а до Окунева было еще больше 60ти.
После яркого солнца начало откровенно примораживать, ноги в новых сапогах у меня закоченели, хотелось есть и посидеть без тряски по степным кочкам. Тем временем въехали мы в село с единственной улицей вдоль тракта, которая протянулась километра на три. Ветеринарный начальник снял с телеги мою окоченевшую персону с вещами и повел на квартиру. Пришли мы в избу к радисту, холостому молодому парню, который проживал один, но кроме нас было еще 6 постояльцев, все молодые мужики.
Меня накормили и уложили с краешку на полатях, где поместилась и вся остальная компания. И что самое интересное, мне даже в голову не пришло, что ситуация получается для девицы не совсем безопасная. Ребята знали, кто я, поговорили, на ночь глядя, о перспективах лечения рака, и я заснула, как убитая. Утром все дружно позавтракали, и я снова водрузилась на воз. Ехали по целине весь день. Никаких торговых точек по дороге не было, поэтому водитель наш понемногу трезвел и ехал без остановок.
В сумерках добрались до места назначения. Окунево было таким же длинным селом. Больница помещалась в деревянном доме, естественно, без водопровода и канализации. В приемной стояла новая ванна, назначение ее было неясно. Амбулатория была представлена врачебным кабинетом. Стационар состоял из двух палат, мужской и женской, а кроме того, была еще и детская палата. Персонал включал фельдшера-акушерку (родильный дом в маленькой избе стоял отдельно), двух сестер и санитарку. Она-то и ожидала меня в больнице. Мой провожатый тепло распрощался со мной, пожелав мне всяческих успехов, я его от души поблагодарила. Первое, что я попросила в больнице – дать мне помыться. Девушка достала здоровенную лоханку с горячей водой из русской печки, подставила к сливу ванны другую лоханку, и я смыла с себя недельную дорожную грязь. Больше ванной на моей памяти не пользовались. Спать меня уложили в пустующую палату. Я мгновенно заснула и тут же проснулась от разговора в коридоре, где обсуждали мою персону. Было ясное утро. Началась моя самостоятельная врачебная деятельность.
Я провела прием и поняла, что абсолютно не готова к исполнению обязанностей, как теперь сказали бы, «врача общего профиля». Я ничего не понимала в акушерстве и гинекологии. Зависть пополам с удивлением вызывало у меня обращение с детьми нашей акушерки – она выслушивала у них что-то в легких. Это потом я поняла, что она понимает не больше моего. Зато акушерство она знала, и меня эта сторона практически не касалась. Только один раз во время приема прибежала санитарка из родильного дома и сообщила, что меня срочно просит прибыть акушерка: у 24-летней женщины 8е роды двойней, один ребенок родился, а у второго выпала ручка. Перескакивая через картошку в чьем-то огороде, я неслась по диагонали и с ужасом пыталась вспомнить, что в таких случаях рекомендует учебник. В голове вертелся какой-то поворот, но куда и за что? Не вспомнила ничего. Когда я ворвалась в родилку, дитя уже самостоятельно явилось на свет «самоизворотом». На этом акушерские страсти для меня закончились.
Гинекология повернулась ко мне неожиданной стороной. Больных я обычно посылала в районную больницу. Там делали назначения, я давала больничный лист, и лечение проводили сестры. Основных причин для заболеваний было две. Одна относилась к нравственной категории, и ее можно считать прямым последствием войны. Разрушение крестьянской семьи, начатое в коллективизацию, завершилось в послевоенное время в результате уменьшения мужского населения до критического уровня. Это имело последствием резкое снижение нравственного начала. В селе в это время мужики посчитали себя величайшей ценностью, которой все дозволено. Они переходили от одной дамы сердца к другой вместе со всеми болезнями половой сферы, что, как известно, способствует воспалительным заболеваниям у прекрасной половины. Немало тому помогали и приехавшие поднимать народное хозяйство «дамы полусвета».
Однажды я, взяв «напрокат» у соседей дамский тяжеленный велосипед, покатила на плановое посещение фельдшерского пункта. Прием я вела одна. В дверь кабинета резво вошла молодая женщина в городской одежде, захлопнула дверь и закрыла ее на крючок, чем немало меня удивила. В категорической форме пациентка заявила:
– Доктор, мне надо направление в вендиспансер!
– Что случилось?
– У меня очередное обострение после попойки!
Я поинтересовалась, откуда она. Оказалось, что это искательница приключений и подъемных для этой цели. Она уже перебрала весь мужской контингент фермы, естественно, женатый. Те принесли домой результаты ее знаков внимания. Она наблюдается в вендиспансере, а бедные деревенские тетки туда просто не успевают добраться.
Для них существует и вторая причина болезни – заготовка камыша для прокорма животных на ферме. Животноводческий совхоз на целине создавали, не глядя. А надо бы подумать, что коров, закупленных заграницей вместе с бруцеллезом, надо кормить, а единственный ресурс – камыш в нескольких озерах с ключевыми источниками, совершенно ледяными даже в жару. И в эти озера загоняли женщин на целый рабочий день. Директор совхоза, тоже тридцатитысячник, просил меня не давать им больничные листы, потому что некому работать. Я, конечно, не слушала его увещевания – у теток была повышенная температура, но одним больничным воспаление не лечится.
На этом же приеме я осрамилась. Пришла 22х летняя замужняя дама с жалобами на боли в животе. Я расспросила ее, не забыв и о месячных. Последние были 25го. Осмотр происходил 28го. Муж в армии. Уложила страдалицу на кушетку, в животе нащупываю опухоль пониже пупка. Не могу понять, что это. Начинаю пугаться, не онкология ли. Вдруг эта опухоль легонечко толкнула меня в руку. Спрашиваю:
– У тебя месячные-то в каком месяце были?
– В феврале.
– А сейчас июль. Беременность около 5ти месяцев.
Девица в слезы. Эта замужняя дурочка, вроде меня, такая же информированная. Стыдобище, а еще доктор. Узкий специалист, по Козьме Пруткову. Впору в зеркало посмотреть, нет ли флюса.
Терапия шла получше, у хирургов с ней много пограничных тем. Как-то заподозрила я пневмонию, на рентгене в райбольнице ее подтвердили. Лечение было единственным – уколы пенициллина. Пациент жил в отдаленной деревне, где был фельдшерский пункт. Я и направила его туда с назначениями. На следующий день раздался в кабинете телефонный звонок.
– Вы это направили ко мне на уколы? Дак вот что! У меня покос, и ничего делать я не буду! А вы только попробуйте еще кого направить!
Трубку на том конце бросили. Я изумилась. Для всего нашего поколения такая постановка вопроса была просто невозможна. Поделилась с моей пожилой хозяйкой, куда определили меня на постой, и услышала ответ:
– Ну да! А я на тебя посмотрю, ты их всех наповадила! Они скоро и ночью стучаться начнут! Ты мне только раздреши, я их быстро напонужну! Вон до тебя Нюрка-фершал была. Попробуй, позови ее! Она тебя так пошлет, в другой раз не захочешь! А эти чё ? Ташшатся в любое время. Робенок у ей, вишь, заболел! Ну и помрет дак чё! Другой будет!
Убедить старуху в неправомерности такой постановки вопроса мне так и не удалось. Никого не «понужала», но ворчала постоянно. Вообще-то фельдшер на селе тогда был фигурой весьма значительной. Наш доктор, выходец из глухой вятской деревни, специалист высококлассный и образованный, рассказывал мне, как он приехал к маме после защиты кандидатской диссертации. Он показал ей диплом, сообщил, что он теперь кандидат медицинских наук. Она с сомнением посмотрела на документ, покачала головой и посетовала:
– Эх, Палька! Да почё же ты не фершал!
Утвердиться на новом месте мне помогла хирургия. На прием пришел дядя средних лет, заядлый охотник, у которого был препателлярный бурсит. Колено увеличилось в объеме, ходить стало очень трудно. Его долго лечили примочками, становилось все хуже. На счастье, я знала, что надо делать. Пунктировала околосуставную сумку, наложила тугую повязку, запретила ходить. Через несколько процедур колено приняло обычную форму. Пациент на радостях отправился на охоту, чего делать пока не следовало, и выдал мне рекламу. А тут и наступило время ночных вызовов.
Как-то позвали меня на колику. По дороге туда выскочил мне навстречу через забор огромный пес. Я рванула к окну избы. Выглянула хозяйка. Вышла, позвала собаку, впустила в калитку. Я попросила привязать ее, чтобы на обратном пути она меня не пугала. Тетка кивнула, но исполнить просьбу не подумала. Когда я возвращалась в глубоких сумерках, пес снова вылетел мне навстречу. Я постучала в окно, рявкнула на хозяйку и сообщила, что если у нее приключится аппендицит, я к ней не пойду. Не позднее, чем через неделю, ее увезли с моим направлением в районную больницу с острым аппендицитом.
У директора совхоза было пятеро детей, старшему исполнилось семь лет. Поселились они в большом деревянном доме, бывшем «кулацком», судя по его устройству. Мать семейства получила должность завуча школы. Родители пропадали на работе. За братвой смотрела молоденькая нянька.
Старшенький семилетний братик проявил недюжинные исследовательские наклонности. Его заинтересовал вопрос: можно ли одной порошинкой убить воробья? За экспериментом дело не стало. У отца был охотничий арсенал. Малец открыл банку с порохом, собрал свидетелей из юных родственников и банку поджег. Рвануло основательно. Вылетели многочисленные стекла, за ними швейная машинка и кое-какая мебель. Малышню раскидало по помещениям без серьезных травм, а исследователь получил обширный ожог. Глаза, на счастье, не пострадали.
Меня позвали для решения вопроса о срочной доставке в район за 90 км. Было бы удобнее отправить его от греха подальше, но жаль было трясти ребенка, а кроме того, я знала, что хирург там моложе меня и обещала позвать мою персону, если привезут кишечную непроходимость. В больнице был только что появившийся синтомицин. Линиментом этим обработали мы ожоги. Общее состояние ребенка было удовлетворительным. Решили оставить его в больнице. Через несколько дней стало ясно, что исследователь наш поправляется. До сих пор не знаю, что помогло: детский возраст, неглубокое поражение тканей или новый антибиотик. Но я получила от пациента комплимент. Мама сказала, что его лечит доктор, поэтому он выздоравливает. А дитя резюмировало:
– Значит, и врачи иногда приносят пользу?
А синтомицин у меня оказался тоже не без причины. Как-то утром на прием пришла девочка лет пятнадцати. Она закрывала лицо рукой, из обоих глаз тек гной. Выяснилось, что она работает няней у директора совхоза. Я растерялась. Это было похоже на трахому, но о ней я почти ничего не знала. Назначив ей глазные капли, я в обед отправилась домой и вытащила из чемодана новый врачебный справочник.
По поводу трахомы там было написано буквально следующее: это инфекционное заболевание, дающее тяжелые осложнения, трахома в СССР ликвидирована. Все. Я испытала гордость за советскую медицину и глубокую тревогу за себя. Мне-то что делать? Я позвонила в ЦРБ моей коллеге и по совместительству «зав. Райздравотделом». Она отреагировала оперативно. Назавтра мне прислали свеженькую монографию по трахоме, пинцет и синтомицин. В монографии была подробно описана методика лечения. Я выдавливала окончатым пинцетом содержимое из фолликулов на конъюнктиве и закладывала синтомициновый линимент. На следующий день появились новые больные, а потом это приняло характер эпидемии, так что пришлось запросить еще лекарство. Несознательный, однако, у нас народ. Ведь сказано, что болезнь ликвидирована, а они все равно болеют. Непонятно только, как автор монографии догадался ее написать, несмотря на победу над трахомой. Вот остатками этого синтомицина я и лечила ожог.
За это недолгое время я успела многое повидать и осознала, как правильно заметил Л.Н.Толстой, что человек должен знать «все о чём-нибудь и что-нибудь обо всём». Особенно тяжелое впечатление произвели на меня больные бруцеллезом, закупленным вместе с породистым скотом заграницей: восемнадцатилетние доярки с опухшими багровыми суставами и лихорадкой, кричащие от невыносимой боли, и хроники, почти неподвижные, с прозрачными костями на рентгенограммах.
И еще часто вспоминаю я круглое, как блюдце, озеро с пересыщенным солевым раствором вместо воды, на дне которого лежала чистая белоснежная соль. В нем нельзя было плавать, но можно сидеть на поверхности. Рядом был сильный запах сероводорода и болотце из жидкой грязи. Каждый год к нему приезжали казахи, ставили юрты, купались и обмазывали себя грязью. Жили с месяц и уезжали до следующего года. Мы слушаем дифирамбы целебным качествам Мертвого моря, а у самих под ногами такое богатство. Прошло более полувека, и ничего не слышно об этом уникальном месте, которое могло бы принести здоровье многим людям и пополнить казну региона.


