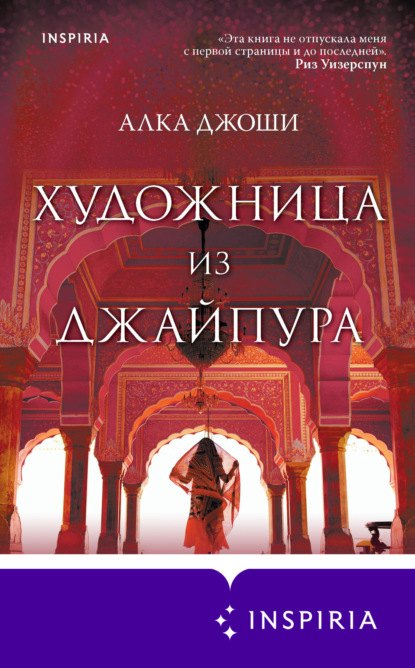Полная версия
Игра в молчанку
Примерно минуту или немного больше мы молча смотрели, как грудь Мэгги вздымается и опадает в такт мерной работе аппарата искусственной вентиляции легких. Ее губы слегка приоткрылись, и от этого лицо Мэгги казалось таким беспомощным, словно она готова была сдаться, уступить. И это тоже было так не похоже на нее, на мою Мэгги! Эта неестественная сдержанность, это молчание… даже присутствие медицинской сестры, которая ухаживала за Мэгги точно так же, как она сама поступала всю жизнь и за что в конце концов была наказана – все это абсолютно не вязалось с той Мэгги, которую я знал и любил.
– Вы можете поговорить с ней, – промолвила наконец Дейзи. – Здесь так тихо, что многие просто боятся или стесняются говорить вслух, но вы об этом не думайте. Вашей жене очень важно слышать ваш голос.
Я сглотнул. Что сказала бы Дейзи, если бы знала?.. Почему-то я решил, что она мудра не по возрасту – должно быть, в силу профессии ей слишком часто приходилось сталкиваться с чужими страданиями. Но даже если я прав, сможет ли она понять?
И я вспомнил тот день, когда голос впервые мне изменил. Я был на грани того, чтобы признаться Мэгги в том, что́ я совершил. Я знал, к каким последствиям привел мой поступок, и испытывал такое острое, такое всепоглощающее чувство вины, что у меня не было никаких сомнений: я просто обязан обо всем рассказать Мэгги. Слова признания уже готовы были сорваться с кончика моего языка – по крайней мере так мне тогда казалось. Набравшись мужества, я на цыпочках подошел к двери нашей спальни и… и увидел ее. Одна в полутемной комнате, она пыталась сесть, чтобы дотянуться до стакана с водой на ночном столике – бледная тень той женщины, какой Мэгги когда-то была. Именно в этот момент я решил, что не должен ничего говорить, чтобы не сделать ей еще больнее. Мэгги и без того едва держалась, и я просто не имел права обрушить на нее еще одну порцию плохих новостей. Я не мог сказать ей то, что собирался, потому что это означало бы, что Мэгги уйдет от меня. И каждый последующий день, когда я не мог найти в себе силы заговорить и когда тишина словно могильным саваном окутывала нас обоих, я жил со все возрастающим ощущением собственной вины и жгучего стыда. Молчание буквально душило меня, но все же это было лучше, чем признаться Мэгги во всем – и потерять ее навсегда.
Дейзи деликатно кашлянула, возвращая меня из мучительного прошлого к мучительному настоящему.
– Вот что я вам скажу, Фрэнк… Я, конечно, не врач, так что не поймите меня неправильно, но мне приходилось видеть таких больных, и я знаю: иногда голос близкого человека действует лучше, чем любые приборы и любые лекарства. Почти все пациенты, находящиеся в коме, слышат, когда с ними разговаривают. Знакомый голос напоминает им обо всем хорошем – о том, ради чего стоит очнуться, и ускоряет выздоровление. Вы меня понимаете?
Я не совсем понял, но все равно кивнул. Я ясно видел, что Дейзи искренне сочувствует Мэгги, хотя кто она для нее? Посторонний человек, всего лишь еще одно имя в списке пациентов реанимации, и все же… Я уже обратил внимание, что у Дейзи были довольно большие пальцы – длинные и сильные пальцы человека, привыкшего к физическому труду, но, когда она поправляла простыню на груди Мэгги, где проходили какие-то трубки, эти пальцы двигались очень осторожно и нежно. Уверен, Мэгги сумела бы это оценить.
– Можете рассказать ей новости, – предложила Дейзи. – Вам, наверное, есть чем поделиться с миссис Хоббс, особенно после того, как вам выпал такой трудный день. Или, может быть, вы хотите открыть ей какой-то секрет, что-то такое, что уже некоторое время было у вас на уме, но вы не успели ей сказать?..
– Да, такой секрет у меня, конечно, имеется… – я пытался говорить беззаботно, но выходило глупо и неловко.
– Простите, что?.. Я не расслышала. Вы почти шепчете… – Дейзи взглянула на какой-то экран рядом с койкой Мэгги и захлопнула свой блокнот.
– Извините. Я… у меня действительно есть кое-что, чем я давно хотел с ней поделиться… И это очень важно. Не представляю, почему я ничего не рассказал ей раньше.
От собственной лжи меня бросило в жар. Прижав к губам сжатый кулак, я почти силой заставил себя взглянуть Мэгги в лицо, но ее глаза по-прежнему были закрыты. И почему я не замечал, какой маленькой и хрупкой она стала? Правда, Мэгги никто бы не назвал крупной женщиной – она была на добрый фут ниже меня, но сейчас от нее осталась одна тень.
И снова я вспомнил, как в первую зиму, которую мы прожили вместе, я удивлялся тому количеству свитеров, которые ей приходилось натягивать на себя, чтобы не мерзнуть. Она носила их даже дома, в нашей первой съемной квартире, которая, по правде сказать, действительно была холодновата. Центральное отопление еле грело, и Мэгги приплясывала с ноги на ногу, словно инструктор по аэробике, пока я без толку нажимал кнопки в бойлерном шкафу. Мне, впрочем, было совсем не холодно – я уже тогда знал, что Мэгги несет с собой уют и тепло куда бы она ни пошла, хотя она и выглядела как недокормленная девочка-подросток.
– Только не будьте жестоки, Фрэнк, – снова посоветовала Дейзи. – Не выпаливайте все сразу, чтобы не напугать и не расстроить миссис Мэгги. Действуйте постепенно, начните с хороших новостей, с каких-нибудь забавных эпизодов. Пусть ваша жена почувствует, что ее по-прежнему любят. Будет очень хорошо, если вы напомните ей о тех случаях в вашей жизни, когда вам удавалось ей это показать.
Должно быть, мое лицо не выражало ничего, кроме чистой и беспримесной паники, поскольку Дейзи опустила ладонь мне на плечо и слегка сжала, отчего складки и морщинки на моей измятой рубашке расправились.
– Не волнуйтесь, сэр. Просто поговорите с ней, не теряйте времени, хорошо?..
2
Но в тот первый день я не задержался в больнице надолго. Как только Дейзи вышла, я почувствовал, как, вопреки моим благим намерениям, ко мне возвращается моя молчаливая сдержанность. Пробиться сквозь нее было по силам только Мэгги, которую не смущали ни мои сделанные из лучших побуждений, но всегда не к месту и не ко времени замечания, ни моя болезненная застенчивость, которая не давала мне запросто сойтись с незнакомым человеком. Наверное, за все годы, что мы провели вместе, Мэгги никогда не казалась мне настолько чужой, как сейчас, – тонущее в хаосе эластичных трубок и разноцветных проводов сморщенное, худое лицо, на которое то и дело ложатся отблески сигнальных лампочек на странных приборах, издающих негромкие попискивания по мере того как они производят замеры пульса, давления и прочего.
Мне так много нужно ей сказать, что я даже не знаю, с чего начать. Мне ясно одно: нельзя начинать с причин, которые заставили меня замолчать. Да и Дейзи советовала мне попробовать что-нибудь забавное и легкое – что-нибудь такое, что способно вернуть Мэгги из тех мрачных глубин, в которые она неумолимо погружалась все глубже. «Поговорите с ней о чем-нибудь приятном», – говорила сестра. Проблема, однако, заключалась в том, что я никогда не умел, что называется, «трепать языком». Даже в молодости красноречие не было моей сильной стороной. «Сдержан, немногословен, замкнут» – так было написано в моей школьной характеристике, которую я отправил в университет вместе с заявлением о приеме. Моя мать всегда считала меня тихоней – так во всяком случае она описывала мой характер своим подругам, родственникам и даже разъездной мозольной операторше, которая являлась к нам со своим набором пемз и терок каждую четвертую субботу месяца. Да, подумалось мне, сейчас от меня примерно столько же пользы, сколько от зонтика во время урагана. Как я вообще смогу сделать то, что от меня требуется?
Выйдя на улицу, я сел в небольшой автобус, который останавливался почти у самых дверей больницы. Он перевозил не людей – страдания… Его пассажиры старались не смотреть друг на друга, не встречаться взглядами, потому что это могло стать последней каплей… или, лучше сказать, последней соломинкой, способной сломать спину и тем, кто страдает, и тем, кто вынужден наблюдать за всеми не слишком приятными и даже постыдными подробностями этих страданий. И как насчет тех, кто причинил своим близким эти страдания? Сомневаюсь, что в этом автобусе их – меня! – встретили бы с распростертыми объятиями, поэтому я занял место у окна, а на свободное сиденье рядом положил свою сумку.
На одном из светофоров я видел, как парочка, собиравшаяся переходить улицу, едва не пропустила зажегшегося зеленого человечка. Эти двое стояли, обняв друг друга за талию, и смотрели друг на друга так пристально, что вообще ничего не замечали. Позади них какая-то семья, состоявшая из родителей, двоих детей и игривого молодого лабрадора разгружала потрепанный «универсал». Несколько студентов ехали по дороге на велосипедах по трое в ряд, не обращая внимания на тащившийся за ними хвост сердито сигналящих автомобилей. Я смотрел на всех этих людей и думал о том, что еще никогда я не был так одинок. Быть может, брак – наш брак – с самого начала служил для нас с Мэгги средством справиться с одиночеством?
День выдался на редкость жаркий, но в палате у Мэгги, где работал кондиционер, я совершенно этого не чувствовал. Но когда, сойдя с автобуса, я преодолел невеликое расстояние от остановки до нашего дома, мне уже казалось, будто на меня направлено не меньше сотни включенных на полную мощность промышленных фенов. Во рту у меня пересохло до такой степени, что я невольно спрашивал себя, смогу ли я когда-нибудь снова чувствовать себя нормально. Достав ключ, я вставил его в замок после двух или трех неудачных попыток, потому что руки у меня тряслись. Наконец дверь поддалась и свет низкого августовского солнца проник в прихожую. В его золотых лучах плясали и кружились сверкающие пылинки, которые сквозняком постепенно сносило к месту преступления. Чьего преступления, спросил я себя, направляясь к ведущей наверх лестнице. Ее или моего?..
Заставить себя выйти на кухню я не мог. Пока не мог. Не зажигая света, я поднялся по лестнице и двинулся прямиком к спальне. К нашей спальне. Я всегда говорил о ней так, во множественном числе, и не собирался отказываться от этой привычки сейчас. Чего бы я только ни дал, чтобы Мэгги вернулась, чтобы она снова оказалась здесь, чтобы снова лежала на своей половине нашей общей кровати, застеленной белоснежным крахмальным бельем. Впрочем, почему именно на своей? Насколько я помнил, Мэгги могла лежать на любой стороне, а также посередине кровати и даже по диагонали. Раньше мне никогда не приходило в голову, что такая маленькая женщина может занимать столько места. По ночам во сне, она вертелась и извивалась как угорь, пока я не оказывался висящим над пустотой на краю матраса, прикрытый лишь жалким уголком нашего двуспального одеяла. Никогда бы не подумал, что настанет время, когда мне будет этого не хватать.
В задумчивости я провел кончиками пальцев по стопке книг, скопившихся на столике возле кровати. Здесь было несколько романов из благотворительного магазина, изящно изданная «Жена», по которой недавно был снят фильм (я купил ее Мэгги на Рождество несколько лет назад), и еще одна книга в пластиковой библиотечной обложке, срок возврата которой давно истек. Три года назад, когда Мэгги вышла на пенсию, она решила, что будет работать добровольной помощницей в библиотеке Саммертауна, которую как раз собирались закрыть. «В знак солидарности!» – заявила она, когда сообщила мне о своих планах. Я тогда не понял, в знак солидарности с кем – с книгами или с перегруженными работой профессиональными библиотекарями, у которых хватало забот и без нависшей над ними угрозы прекращения государственного финансирования? На новом месте Мэгги очень нравилось – нравились люди, нравилась царившая там тишина (словно в святилище, говорила она). Через год я тоже ушел на пенсию, но она продолжала работать, и только когда случилось то, что случилось, Мэгги ушла из библиотеки. Наверное, это очень трудно – помогать другим и быть не в силах помочь самому себе.
В последние годы Мэгги вертелась в постели уже не так сильно, как раньше, но спала плохо. Перед сном она пыталась читать, надеясь таким способом привести нервы в порядок, но когда я наклонялся, чтобы поцеловать нежный участок кожи у нее за ухом или погладить по внутренней стороне предплечья, как ей когда-то нравилось, я видел, что книга, которую Мэгги держала в руках, открыта на той же странице, что и вчера, а рассеянный, затуманенный взгляд устремлен в пространство. Если я спрашивал, можно ли гасить свет, она как правило соглашалась, но я знал, что мы оба заснем не скоро. Какое-то время спустя, убедившись, что она не спит, я принимался водить кончиком пальца по ее пояснице под задравшейся пижамной курточкой, рисуя на нежной коже разные завитушки и фигуры. Это напоминало мне наши первые свидания, когда я еще боялся сказать о своей любви вслух и вместо этого писал свое признание пальцем на ее спине – трусливый компромисс, полумера, которая, однако, требовала всей моей отваги.
Сбросив ботинки, я повалился на опустевшую кровать прямо поверх покрывала. Мне отчаянно хотелось снова прикоснуться к Мэгги, снова сказать ей, как сильно я ее люблю. Но вскоре усталость взяла свое, я начал задремывать, однако и в полусне я видел только лежащую рядом со мной Мэгги, которая выпрастывала из-под одеяла тонкую руку, чтобы, как всегда, крепко меня обнять.
На следующий день, когда я пришел в больницу, на сестринском посту со мной поздоровалась, назвав меня по имени, какая-то женщина, которую я совершенно точно видел впервые в жизни. Надеюсь, подумалось мне, это не означает, что они здесь уверены – мне придется ходить в больницу еще достаточно долго. Дейзи нигде не было видно, и я невольно испытал острый приступ неуверенности. Она казалась мне такой спокойной, такой невозмутимой и не склонной выносить суждения, что мне не хотелось потерять еще и ее. Оглядывая приемный покой, где собралось уже немало пациентов, я искал Дейзи глазами и наконец заметил ее в дальнем углу. Она сидела за монитором в одной из небольших компьютерных кабинок, так что мне были видны только ее спина и натянутые на бедрах больничные брюки. Чувствуя, как у меня отлегло от сердца, я шагнул вперед и откашлялся, чтобы привлечь ее внимание. Вышло чересчур громко: беременная женщина, сидевшая на пластиковом стуле в пяти футах от меня, поспешно прикрыла рот и нос платком, и я покраснел как человек, который совершил какую-то чудовищную бестактность. Впрочем, своей цели я достиг.
– Доброе утро, профессор! – Дейзи широко улыбнулась и, развернув кресло, поднялась мне навстречу, упираясь в колени руками. Она оказалась даже выше ростом, чем мне показалось вчера – всего на полголовы ниже меня – и была, что называется, «крепенькой»: так частенько говаривала Мэгги, с удовольствием разглядывая молодые деревца на нашем заднем дворе.
– Вы не против, что я называю вас профессором?.. – спросила Дейзи, выбираясь из кабинки и увлекая меня в коридор. Сегодня ее густые темно-каштановые волосы были собраны в «конский хвост», который при каждом шаге раскачивается из стороны в сторону.
– Я… гм-м… Гхм.
– Что с вами? Язык проглотили?.. – Мимолетно обернувшись, Дейзи улыбнулась с такой очаровательной непосредственностью, какой мне всегда не хватало в общении даже с родственниками, не говоря уже о посторонних.
– Зовите меня Фрэнк, Дейзи, – сказал я решительно. – Просто Фрэнк.
Дейзи еще раз улыбнулась, и я решил, что впервые в жизни мне удалось сделать хоть какую-то мелочь правильно. Но когда мы дошли до дверей палаты – как и вчера, плотно закрытой – я почувствовал, как тают мои проснувшиеся было надежды.
На этот раз жалюзи на окнах были подняты. Я оглядел небольшую, скудно обставленную палату и вдруг почувствовал смущение от того, что явился с пустыми руками.
Дейзи каким-то образом угадала, о чем я думаю.
– В палате необходимо поддерживать стерильную чистоту, – сказала она. – Поэтому здесь почти нет мебели. Но ваш стул я не стала уносить, чтобы вы могли подольше поговорить с миссис Мэгги.
И, обойдя меня, Дейзи шагнула к окнам и чуть-чуть опустила жалюзи, чтобы яркий свет не резал мне глаза.
– Как прошел ваш вчерашний вечер? – спросила она.
– Не слишком хорошо, – признался я.
– Я вас понимаю, Фрэнк. Вам сейчас нелегко. И все равно миссис Мэгги будет приятно знать, что вы здесь.
– Я… боюсь, – эти слова сорвались с моего языка, прежде чем я успел их как следует обдумать.
– Я понимаю, – снова сказала она, – но поверьте: если сейчас вы не станете с ней разговаривать, будет еще хуже. Тогда, если что-то вдруг пойдет не так, вы будете жалеть о том, что молчали… А сожаление хуже всего.
Я почувствовал, что Дейзи собирается уйти, и мне захотелось, чтобы она осталась. Обязательно осталась. С ней я чувствовал себя в безопасности – она была мостом, каналом связи между Мэгги и мной.
– Дейзи, – позвал я, когда она шагнула к двери. – Что́ я должен говорить?
Ее лицо не изменилось, только легкая улыбка тронула уголки губ. Вероятно, я был не первым, кого ей приходилось учить, как вести себя у постели больного.
– Что хотите, Фрэнк… Если не знаете, с чего начать, попробуйте рассказать ей историю вашей жизни вдвоем. С самого начала, такой, какой вы ее помните, какой она вам представляется… Миссис Мэгги будет рада услышать ее от вас, к тому же начинать с начала всегда легче. И помните, вас никто не торопит. Не спешите, скажи́те ей все то, что хотели сказать, но не успели.
Я кивнул.
– Только не забудьте: не все сразу! – и с этими словами Дейзи исчезла за дверью.
Я придвинул свой стульчик поближе к койке, стараясь не задеть бесчисленные трубки и кабели. Голова у меня слегка кружилась – я думал о том, сколько всего я могу сказать, сколько я должен сказать, и как мало из возможных тем кажутся мне уместными. Кроме того, трудно начать говорить, если замолчал так давно…
– Доброе утро, Мэгги, – произнес я наконец. Мой голос показался мне самому каким-то чужим, незнакомым, похожим на хриплое карканье. – Дейзи советует сказать тебе то, что мне следовало бы сказать раньше… Что ж, устраивайся поудобнее.
Я запнулся, припомнив ее легкий, как перышко, смех, на который Мэгги не скупилась, даже когда мои шутки были неуклюжими, а анекдоты – бородатыми. Потом мне показалось, что трубка капельницы в руке Мэгги, которую я по привычке взял в свою, слишком натянулась, и я поспешил выпустить ее, пока какой-нибудь из этих хитрых приборов не просигналил на сестринский пост, что я веду себя неподобающим образом, и меня не вышвырнули из больницы с позором.
– Я… я… Ты слышишь меня, Мэгги? Слышала ли ты, что́ я только что говорил? Нет? Ну ладно… Господи, Мэгги, я, наверное, уже никогда не исправлюсь, правда?..
Почти минуту я боролся с желанием поскорее уйти, чтобы назавтра повторить свою сегодняшнюю – и вчерашнюю – безуспешную попытку заговорить. Потом я вспомнил наш пустой дом, где на каждой вещи – на стуле, на стенах, на электрических выключателях – лежал ясный отпечаток личности Мэгги. Какой же я муж, если брошу ее здесь и вернусь туда, где меня не ждет ничего, кроме одиночества? Холодный, равнодушный, трусливый – вот какой! За прошедшие сорок лет я совершил немало ошибок, но никогда, никогда я не мог сказать, что не люблю Мэгги.
Я медленно выпрямился, мысленно представляя, как мои позвонки занимают правильное положение, образуя идеально прямую линию.
– В общем, Мегс, я вот что скажу… Мы оба знаем, что я не люблю много говорить, да и рассказчик из меня отвратительный, но тебе придется примириться с этим, потому что я решил остаться. Надолго ли?.. До тех пор, пока ты не проснешься. Видишь, у меня даже стул есть…
Нет ответа.
– Ты должна знать, что случилось, Мегс. Почему я замолчал. Почему отдалился… На самом деле я не отдалился, но со стороны это выглядело так, словно я больше не хочу… Но на самом деле…
Я был уверен, что при этих словах ее глаза широко распахнутся, а губы округлятся изумленным «о». Наконец-то! Вот он – ответ, который она искала долгих шесть месяцев. Ответ, который едва не отнял ее у меня навсегда.
– Я не могу отпустить тебя, не сказав всего.
Когда я произнес эти слова вслух, они испугали меня самого, и я мысленно выругал себя последними словами. Вряд ли Дейзи имела в виду что-то подобное, когда говорила о «смешных вещах» и «забавных случаях». Совсем наоборот.
– Я не могу отпустить тебя, и все тут! Я не могу без тебя. Правда, не могу, – проговорил я горячим шепотом и снова потянулся к ее руке. – И мне очень жаль, что все получилось именно так. Ты даже не представляешь, насколько сильно я жалею. Прости меня, Мегс. Кстати, ты помнишь, что именно эти слова я сказал тебе, когда мы познакомились? Помнишь, Мегс?.. «Прошу прощения»… Я – помню, и знаешь, что́ я тебе скажу? Все наши сорок с лишним лет я каждый день думал о том, почему тогда мне не пришло в голову ничего более умного. А еще я думал о том, что́ я хотел бы сказать тебе в тот самый первый раз…
– Когда я увидел тебя тогда, первыми, что я разглядел, были твои глаза и красный кончик носа, который рдел словно маяк в пургу. Ниже него твое лицо было замотано толстым шерстяным шарфом, из-под которого виднелось лишь несколько прядей волос. Ты появилась точно так же, как появлялась потом всегда – так налетает циклон или ураган. Стремительные взмахи рук, дождь воздушных поцелуев, крепкие объятья и отрывистые восклицания, а главное – ощущение тепла, которое почувствовали все, кто находился поблизости, хотя в тот день было градуса три или четыре ниже нуля.
Раньше я тебя здесь не видел – это я знал совершенно точно. К тому времени я провел в Оксфорде уже пять лет и был по горло занят своей докторской диссертацией. В нашей лаборатории почти не было женщин, однако и в свободное время я не слишком обращал на них внимание. И все же я был совершенно уверен, что никогда в жизни не видел такой девушки, как ты.
Паб «Роза и Корона» с его дешевым пивом и просторной открытой верандой считался неофициальной штаб-квартирой нашей лаборатории эволюционной биологии. В этом утверждении, впрочем, есть некоторая натяжка, поскольку бывали мы там довольно редко: в те времена мы, молодые, увлеченные исследователи, работали днями напролет, нередко прихватывая и те вечерние часы, которые большинство людей обычно уделяют общению в неформальной обстановке. Это, впрочем, не отменяет того факта, что паб «Роза и Корона» нравился нам больше других. Он находился достаточно далеко от Города Дремлющих Шпилей, чтобы там почти не появлялись увешанные фотоаппаратами туристы, и в то же время располагался на конечной остановке одного из городских автобусных маршрутов, благодаря чему те из нас, кто еще держался на ногах после редких, но бурных вечеринок, могли без труда добраться до университетского общежития.
Тебя я заметил сразу. Я знаю, это звучит банально, но именно так оно и было. Думаю, я заметил бы тебя, даже если бы, спеша поскорее обнять своих праздновавших в углу друзей, ты не задела локтем стакан моего приятеля Петра.
В преддверии Рождества в городе появилось немало новых лиц: в основном это были те, кто работал в других местах и вернулся в Оксфорд, чтобы провести праздничную неделю с родными. Мы же, – компания академических затворников, – находились слишком далеко от родных мест, чтобы встречать праздник в собственных гостиных (тот же Петр вообще приехал в Оксфорд из Польши). Что касалось меня, то мне просто не хотелось в очередной раз разочаровывать родителей, уже давно ожидавших, что их двадцатисемилетний сын приедет домой с невестой. Да, такова была реальность «свободных семидесятых»: бунтарские идеи десятилетия владели умами в столице, однако уже в «ближних графствах» [2] о них мало кто слышал. Даже в Гилфорде, где в стандартном доме на три спальни жили мои родные, все еще преобладал патриархально-консервативный уклад, хотя до центра Лондона было оттуда всего сорок минут на электричке.
Вот почему я нисколько не расстроился, не попав домой на праздники. Конечно, родители желали мне добра; я любил их, и они любили меня, но каждый раз, когда я возвращался под отчий кров, окружающее казалось мне каким-то маленьким и провинциальным. И то сказать, в нашей семье никогда не обсуждали никаких важных вещей, не говоря уже о проблемах мироздания, которые здесь, в Оксфорде, бывало не давали нам уснуть до поздней ночи. До́ма было спокойно, уютно и… скучно. С самого начала мои родные считали, что я должен пойти по стопам отца, владевшего гаражом, а впоследствии – продолжить семейный бизнес. Наука, считали мои родные, это, конечно, хорошо, но лучше оставить ее внутри школьных стен, чтобы без помех строить реальную, осязаемую карьеру. Когда я выбрал университет, им потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть, но я знал, что в глубине души они по-своему мною гордятся.
В Оксфорде я, напротив, чувствовал себя как дома. Здесь мне было хорошо, как нигде и никогда прежде. Здесь я обзавелся отличными друзьями, большинство из которых были такими же социально неадаптированными интровертами, каким был и я. Здесь никто не смеялся над теми, кто во время лекций садился в переднем ряду или делал слишком много записей. Пока я учился, мне постоянно казалось, будто я что-то пропускаю или недополучаю чего-то важного, и я прилагал все силы, чтобы это важное отыскать и усвоить. Когда-то я полагал, что в Оксфорде я буду курить толстые сигары, ходить по вечеринкам и приемам и проводить время с женщинами по имени Камилла, Корделия или как-нибудь еще в этом роде, пока нас не застанут пробившиеся в будуар лучи утреннего солнца. В реальности же я проводил вечера в библиотеках, а ночи – за своим письменным столом. Это был единственный и по-настоящему мой способ приятного времяпрепровождения. Был, пока я не встретил тебя.