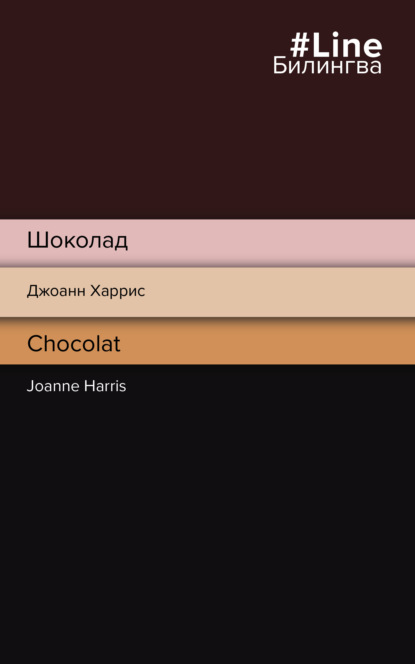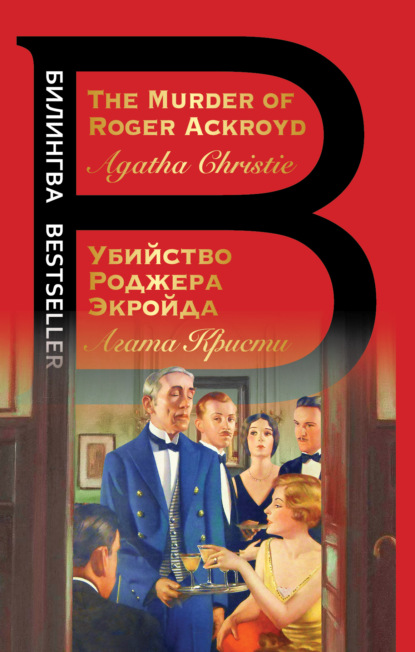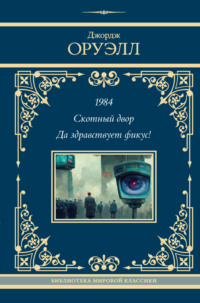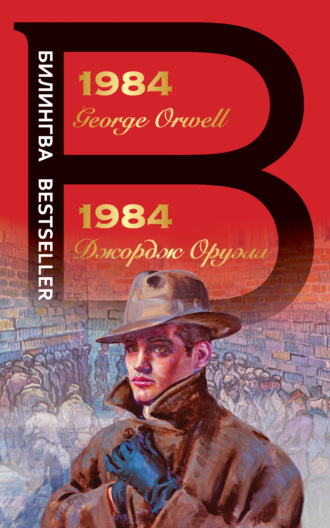
Полная версия
1984
Большой телеэкран на торцевой стене издал жуткий скрежещущий рев, словно чудовищная машина вдруг начала работать без смазки. От этого звука ломило зубы и волосы вставали на загривке. Ненависть началась.
На экране, как обычно, возникло лицо Эммануила Голдштейна, Врага Народа. В зрительских рядах зашикали. Рыжеватая женщина взвизгнула от страха и отвращения. Голдштейн был изменником и отступником, который когда-то давным-давно (насколько именно давно, никто толком не помнил) числился в предводителях Партии, чуть ли не наравне с самим Большим Братом, а потом ударился в контрреволюцию, был приговорен к смерти и таинственным образом сбежал, исчез. Программа Двухминутки Ненависти каждый день менялась, но на первый план всегда выходил Голдштейн. Он значился предателем номер один, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, любые измены, вредительства, предательства, уклонения – все это было прямым следствием его учения. Он все еще был жив, скрываясь неведомо где и продолжая плести заговоры: возможно, где-то за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а может быть – ходили и такие слухи, – он затаился на территории самой Океании.
Уинстону сдавило грудь. Всякий раз при виде Голдштейна его обуревали сложные и мучительные чувства. Это было сухое еврейское лицо в венчике пушистых белых волос и с козлиной бородкой – лицо умное и вместе с тем какое-то плюгавое, тронутое старческим маразмом, с очками на кончике длинного тонкого носа. В нем виделось что-то овечье, и сам голос изменника походил на блеянье. Голдштейн, как обычно, подвергал партийные доктрины ядовитым нападкам – столь вздорным и нелепым, что и ребенок мог их раскусить, однако достаточно убедительным для опасений, что кто-то менее здравомыслящий может на них повестись. Он поносил Большого Брата, обличал диктатуру Партии, требовал немедленно заключить мир с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли, он истерически вопил, что Революцию предали – и все это стремительной скороговоркой со сложными составными словами, будто пародируя манеру партийных ораторов, включая даже слова новояза, да в таких количествах, что никакому партийцу было за ним не угнаться. В это время, отметая любые сомнения в реальной подоплеке слов Голдштейна, на заднем фоне бесконечно маршировали колонны евразийской армии: шеренга за шеренгой кряжистых мужчин с бесстрастными азиатскими лицами. Они приближались к поверхности экрана и исчезали, уступая место своим точным копиям. Блеющий голос Голдштейна накладывался на ритмичный топот солдатских сапог.
Не прошло и полминуты Ненависти, а половина зрителей уже не могла сдерживать яростных возгласов. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и ужасающую мощь евразийской армии за ним, хотя и без того одна только мысль о самом Голдштейне вызывала непроизвольный страх и гнев. Он был куда более привычным объектом ненависти, чем Евразия или Остазия, поскольку, когда Океания воевала с одной из них, то обыкновенно заключала мир с другой. Как ни странно, хотя Голдштейна ненавидели и презирали все подряд, и каждый день по тысяче раз за сутки – на трибунах, на телеэкранах, в газетах и книгах – его теории опровергали, громили, высмеивали, разбирали по кусочкам, доказывая их полнейшую несостоятельность, несмотря на все это, его влияние, казалось, не ослабевало. Всегда находились новые простофили, только и ждавшие идеологического совращения. Не проходило и дня, чтобы Мыслеполиция не разоблачала шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командовал огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, поставивших себе целью свергнуть Режим. Обычно на них ссылались как на Братство. А еще передавали шепотом истории о жуткой книге, собрании всех ересей, которую написал и тайно распространял Голдштейн. Книга не имела названия. В редких разговорах о ней упоминали просто как о книге. Но о таких вещах можно было узнать только по неясным слухам. Никто из рядовых партийцев старался не упоминать ни Братство, ни книгу.
На второй минуте ненависть перешла в истерию. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, стараясь заглушить одуряющий блеющий голос с экрана. Рыжеватая соседка Уинстона раскраснелась и разевала рот, словно рыба на суше. Даже тяжелое лицо О’Брайена побагровело. Он сидел очень прямо, его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно принимая на себя прибойную волну. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала кричать: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – внезапно схватила тяжелый словарь новояза и запустила в телеэкран. Словарь врезался Голдштейну в нос и отскочил; голос с экрана звучал все так же неумолимо. Уинстон вдруг осознал, что тоже вопит вместе со всеми и яростно лягает ножку стула. Двухминутка Ненависти была ужасна не тем, что ты обязан играть свою роль, напротив, ты просто не мог не поддаться общему настрою. Через полминуты уже не нужно было притворяться. Словно электрический разряд толпу охватывали страх и гнев, исступленное желание убивать, истязать, крушить лица молотом, и люди против воли делались буйнопомешанными. Однако эта ярость оставалась отвлеченной, неперсонализированной эмоцией, которую можно было переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Так ненависть Уинстона в какой-то миг оказывалась обращенной вовсе не на Голдштейна, а наоборот, на Большого Брата, на Партию и Мыслеполицию; в такие моменты сердце его тянулось к одинокому очерненному отступнику на экране, признавая в нем единственного поборника правды и здравомыслия в мире лжи. Однако в следующий миг Уинстон был един с людьми вокруг себя, и все, что говорили о Голдштейне, казалось ему правдой. Тогда его тайная неприязнь к Большому Брату сменялась обожанием, и Большой Брат вздымался надо всеми, как скала, превращаясь в неуязвимого, бесстрашного защитника от азиатских орд, а Голдштейн, несмотря на всю свою изоляцию, беспомощность и даже сомнение в самом его существовании, казался каким-то зловещим чародеем, который мог одной лишь силой голоса сокрушить целую цивилизацию.
Иногда можно было даже обратить свою ненависть волевым усилием на конкретный объект. Внезапно, диким усилием, каким отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон сумел перевести ярость с Голдштейна на темноволосую девушку позади себя. У него перед глазами замелькали отчетливые прекрасные галлюцинации. Он забьет ее до смерти резиновой дубинкой. Привяжет голой к столбу и истыкает стрелами, как святого Себастьяна. Овладеет ею и в момент оргазма перережет глотку. С небывалой ясностью он осознал причины своей ненависти. Потому что она была молода и красива и отрицала секс, потому что он хотел переспать с ней и никогда не сможет этого сделать, ведь ее прелестную гибкую талию, так и просившуюся в объятья, обнимал только жуткий алый кушак, агрессивный символ непорочности.
Ненависть достигла апогея. Голос Голдштейна перешел в настоящее овечье блеянье, и на миг его лицо обернулось бараньей мордой, которая плавно перетекла в фигуру евразийского солдата – огромный и ужасный, он наступал на зрителей, грохоча автоматной очередью. Казалось, он сейчас соскочит с экрана, так что некоторые в первом ряду отпрянули подальше. Но тут же раздался всеобщий вздох облегчения, когда враждебная фигура уступила место лицу Большого Брата – черноволосому, черноусому, исполненному могущества и загадочного спокойствия – да такому огромному, что оно едва умещалось на экране. Никто не мог расслышать, что говорил Большой Брат. Скорее всего, лишь несколько ободряющих слов, из тех, что произносят в пылу сражения, – сами по себе невнятные, они вселяли уверенность уже тем, что были произнесены. Затем лицо Большого Брата вновь поблекло, и на его месте жирным шрифтом возникли три лозунга Партии:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Лицо Большого Брата еще держалось на экране несколько секунд, словно бы его воздействие на человеческий глаз было слишком сильно, чтобы изгладиться сразу. Рыжеватая женщина навалилась на спинку переднего стула, лепеча дрожащим голосом что-то вроде: «Спаситель мой!» – и простерла руки к экрану. После чего спрятала лицо в ладони, вероятно, забормотав молитву.
И тут все собравшиеся принялись ритмично и неторопливо скандировать низкими голосами: «Бэ – Бэ!.. Бэ – Бэ!..» – снова и снова, очень медленно, с долгими интервалами между первым «Бэ» и вторым. В этом тяжелом, монотонном гуле слышалось что-то до странности дикарское, так что невольно представлялся топот босых ног и рокот туземных барабанов. Шум длился с полминуты. Люди нередко прибегали к этому рефрену от избытка чувств. Отчасти они восхваляли мудрость и величие Большого Брата, но в большей степени намеренно вводили себя в транс, одурманивая разум ритмичным повтором. Уинстон почувствовал, как внутри у него холодеет. Двухминутки Ненависти заставляли его поддаваться общему помешательству, но это дикарское скандирование «Бэ – Бэ!.. Бэ – Бэ!» всегда наполняло его ужасом. Разумеется, он повторял вместе со всеми – по-другому никак. Так велел инстинкт: скрывать свои чувства, управлять мимикой, делать все как все. Но на этот раз была пара секунд, когда он мог бы выдать себя выражением глаз. И вот тогда случилось нечто примечательное – если оно и вправду случилось.
В какой-то момент Уинстон поймал взгляд О’Брайена. Тот уже встал. Он снял очки и собирался снова водрузить их на нос своим характерным жестом. Но за долю секунды до этого их глаза встретились, и Уинстон понял – да, понял! – что О’Брайен думал так же, как и он сам. Ошибки быть не могло. Словно их сознания раскрылись и мысли передавались из глаз в глаза.
«Я с вами, – словно бы сказал ему О’Брайен. – Я понимаю ваши чувства. Я знаю все о вашем презрении, ненависти, отвращении. Но не волнуйтесь, я на вашей стороне!»
И тут же этот проблеск разума погас, а лицо О’Брайена стало таким же непроницаемым, как и у остальных.
Вот и все, Уинстон сразу начал сомневаться, произошло ли что-то вообще. Такие инциденты никогда ни к чему не вели. Они только поддерживали в нем убеждение или надежду, что были и другие враги Партии, не только он один. Возможно, что слухи о хитросплетенных подпольных заговорах имели реальную основу – не исключено, что Братство и вправду существовало! Нельзя было сказать с уверенностью, несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, что Братство – не просто миф. Иногда Уинстон верил в него, иногда – нет. Свидетельств не было, только беглые взгляды, которые могли значить что угодно или вовсе ничего, обрывки чужих разговоров, неразборчивые надписи на стенах туалетов – а еще как-то раз он видел, как встретились два незнакомца, и один из них необычно шевельнул рукой, словно подав некий знак. Одни лишь догадки: вполне возможно, все это ему просто привиделось. Он вернулся в свою кабинку, не смея взглянуть на О’Брайена. Уинстон едва ли допускал возможность завязать с ним знакомство. Если бы он даже знал, как это устроить, опасность была слишком велика. Два человека обменялись двусмысленным взглядом, длившимся секунду, может, две – и дело с концом. Но даже это стало заметным событием для человека, вынужденного жить в одиночестве.
Уинстон встрепенулся и сел ровнее. Джин в желудке бунтовал и вызывал отрыжку.
Он снова всмотрелся в страницу. Оказалось, что пока он беспомощно витал в воспоминаниях, рука продолжала выводить строчки как бы сама по себе. Только почерк уже был не прежний корявый и неуклюжий. Перо размашисто скользило по гладкой бумаге, выводя крупными печатными буквами:
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
Раз за разом одно и то же – и вот уже исписано полстраницы.
Уинстона захлестнула паника. Абсурдное ощущение, ведь дневник сам по себе был не менее опасен, чем эти конкретные слова. На миг им овладело желание вырвать исписанные страницы и забросить всю свою затею.
Однако он этого не сделал, поскольку понимал тщетность такого поступка. Не было разницы, написал он или нет «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА». Не было разницы и в том, станет ли он дальше вести дневник или нет. Мыслеполиция все равно его поймает. Он и так уже совершил – даже если бы никогда не касался пером бумаги – абсолютное преступление, содержавшее в себе все остальные. Мыслефелония – так это называлось. Мыслефелонию невозможно скрывать вечно. Можно изворачиваться до поры до времени, даже годами, но рано или поздно за тобой придут.
Приходили всегда по ночам – в другое время людей не арестовывали. Тебя резко будили, трясли за плечо, светили фонарем в глаза, кровать обступали суровые лица. Почти никогда никого не судили, об арестах не сообщали. Люди просто исчезали – всегда среди ночи. Твое имя удаляли из реестров, любые записи о твоих действиях уничтожали, само твое существование отрицалось и вскоре забывалось. Тебя аннулировали, стирали с лица земли – одним словом, испаряли, как об этом говорили.
Им вдруг овладело что-то вроде истерики. Уинстон принялся спешно писать неряшливым почерком:
меня застрелят мне плевать меня застрелят сзади в шею мне плевать долой большого брата они всегда стреляют сзади в шею мне плевать долой большого брата…
Он откинулся на спинку стула, чуть стыдясь себя, и отложил ручку. В следующий миг он нервно вздрогнул. Стучали в дверь.
Уже! Уинстон сидел тихо, как мышка, в тщетной надежде, что кто бы там ни был, он сейчас уйдет. Но нет, стук повторился. Медлить в такой ситуации было хуже всего. Сердце Уинстона бухало, как барабан, но лицо в силу долгой привычки оставалось почти невозмутимым. Он встал и тяжело направился к двери.
II
As he put his hand to the door knob Winston saw that he had left the diary open on the table. DOWN WITH BIG BROTHER was written all over it, in letters almost big enough to be legible across the room. It was an inconceivably stupid thing to have done. But, he realized, even in his panic he had not wanted to smudge the creamy paper by shutting the book while the ink was wet.
He drew in his breath and opened the door. Instantly a warm wave of relief flowed through him. A colourless, crushed looking woman, with wispy hair and a lined face, was standing outside.
“Oh, comrade,” she began in a dreary, whining sort of voice, “I thought I heard you come in. Do you think you could come across and have a look at our kitchen sink? It’s got blocked up and —”
It was Mrs. Parsons, the wife of a neighbour on the same floor. (“Mrs.” was a word somewhat discountenanced by the Party – you were supposed to call everyone “comrade” – but with some women one used it instinctively.) She was a woman of about thirty, but looking much older. One had the impression that there was dust in the creases of her face. Winston followed her down the passage. These amateur repair jobs were an almost daily irritation. Victory Mansions were old flats, built in 1930 or thereabouts, and were falling to pieces. The plaster flaked constantly from ceilings and walls, the pipes burst in every hard frost, the roof leaked whenever there was snow, the heating system was usually running at half steam when it was not closed down altogether from motives of economy. Repairs, except what you could do for yourself, had to be sanctioned by remote committees which were liable to hold up even the mending of a window pane for two years.
“Of course it’s only because Tom isn’t home,” said Mrs. Parsons vaguely.
The Parsons’ flat was bigger than Winston’s, and dingy in a different way. Everything had a battered, trampled on look, as though the place had just been visited by some large violent animal. Games impediments – hockey sticks, boxing gloves, a burst football, a pair of sweaty shorts turned inside out – lay all over the floor, and on the table there was a litter of dirty dishes and dogeared exercise books. On the walls were scarlet banners of the Youth League and the Spies, and a full-sized poster of Big Brother. There was the usual boiled cabbage smell, common to the whole building, but it was shot through by a sharper reek of sweat, which – one knew this at the first sniff, though it was hard to say how – was the sweat of some person not present at the moment. In another room someone with a comb and a piece of toilet paper was trying to keep tune with the military music which was still issuing from the telescreen.
“It’s the children,” said Mrs. Parsons, casting a half apprehensive glance at the door. “They haven’t been out today. And of course —”
She had a habit of breaking off her sentences in the middle. The kitchen sink was full nearly to the brim with filthy greenish water which smelt worse than ever of cabbage. Winston knelt down and examined the angle joint of the pipe. He hated using his hands, and he hated bending down, which was always liable to start him coughing. Mrs. Parsons looked on helplessly.
“Of course if Tom was home, he’d put it right in a moment,” she said. “He loves anything like that. He’s ever so good with his hands, Tom is.”
Parsons was Winston’s fellow employee at the Ministry of Truth. He was a fattish but active man of paralysing stupidity, a mass of imbecile enthusiasms – one of those completely unquestioning, devoted drudges on whom, more even than on the Thought Police, the stability of the Party depended. At thirty five he had just been unwillingly evicted from the Youth League, and before graduating into the Youth League he had managed to stay on in the Spies for a year beyond the statutory age. At the Ministry he was employed in some subordinate post for which intelligence was not required, but on the other hand he was a leading figure on the Sports Committee and all the other committees engaged in organizing community hikes, spontaneous demonstrations, savings campaigns, and voluntary activities generally. He would inform you with quiet pride, between whiffs of his pipe, that he had put in an appearance at the Community Centre every evening for the past four years. An overpowering smell of sweat, a sort of unconscious testimony to the strenuousness of his life, followed him about wherever he went, and even remained behind him after he had gone.
“Have you got a spanner?” said Winston, fiddling with the nut on the angle joint.
“A spanner,” said Mrs. Parsons, immediately becoming invertebrate. “I don’t know, I’m sure. Perhaps the children —”
There was a trampling of boots and another blast on the comb as the children charged into the living room. Mrs. Parsons brought the spanner. Winston let out the water and disgustedly removed the clot of human hair that had blocked up the pipe. He cleaned his fingers as best he could in the cold water from the tap and went back into the other room.
“Up with your hands!” yelled a savage voice.
A handsome, tough looking boy of nine had popped up from behind the table and was menacing him with a toy automatic pistol, while his small sister, about two years younger, made the same gesture with a fragment of wood. Both of them were dressed in the blue shorts, grey shirts, and red neckerchiefs which were the uniform of the Spies. Winston raised his hands above his head, but with an uneasy feeling, so vicious was the boy’s demeanour, that it was not altogether a game.
“You’re a traitor!” yelled the boy. “You’re a thought criminal! You’re a Eurasian spy! I’ll shoot you, I’ll vaporize you, I’ll send you to the salt mines!”
Suddenly they were both leaping round him, shouting “Traitor!” and “Thought criminal!” the little girl imitating her brother in every movement. It was somehow slightly frightening, like the gambolling of tiger cubs which will soon grow up into man eaters. There was a sort of calculating ferocity in the boy’s eye, a quite evident desire to hit or kick Winston and a consciousness of being very nearly big enough to do so. It was a good job it was not a real pistol he was holding, Winston thought.
Mrs. Parsons’ eyes flitted nervously from Winston to the children, and back again. In the better light of the living room he noticed with interest that there actually was dust in the creases of her face.
“They do get so noisy,” she said. “They’re disappointed because they couldn’t go to see the hanging, that’s what it is. I’m too busy to take them, and Tom won’t be back from work in time.”
“Why can’t we go and see the hanging?” roared the boy in his huge voice.
“Want to see the hanging! Want to see the hanging!” chanted the little girl, still capering round.
Some Eurasian prisoners, guilty of war crimes, were to be hanged in the Park that evening, Winston remembered. This happened about once a month, and was a popular spectacle. Children always clamoured to be taken to see it. He took his leave of Mrs. Parsons and made for the door. But he had not gone six steps down the passage when something hit the back of his neck an agonizingly painful blow. It was as though a red hot wire had been jabbed into him. He spun round just in time to see Mrs. Parsons dragging her son back into the doorway while the boy pocketed a catapult.
“Goldstein!” bellowed the boy as the door closed on him.
But what most struck Winston was the look of helpless fright on the woman’s greyish face.
Back in the flat he stepped quickly past the telescreen and sat down at the table again, still rubbing his neck. The music from the telescreen had stopped. Instead, a clipped military voice was reading out, with a sort of brutal relish, a description of the armaments of the new Floating Fortress which had just been anchored between lceland and the Faroe Islands.
With those children, he thought, that wretched woman must lead a life of terror. Another year, two years, and they would be watching her night and day for symptoms of unorthodoxy. Nearly all children nowadays were horrible. What was worst of all was that by means of such organizations as the Spies they were systematically turned into ungovernable little savages, and yet this produced in them no tendency whatever to rebel against the discipline of the Party. On the contrary, they adored the Party and everything connected with it. The songs, the processions, the banners, the hiking, the drilling with dummy rifles, the yelling of slogans, the worship of Big Brother – it was all a sort of glorious game to them. All their ferocity was turned outwards, against the enemies of the State, against foreigners, traitors, saboteurs, thought criminals. It was almost normal for people over thirty to be frightened of their own children. And with good reason, for hardly a week passed in which the Times did not carry a paragraph describing how some eavesdropping little sneak – “child hero” was the phrase generally used – had overheard some compromising remark and denounced its parents to the Thought Police.
The sting of the catapult bullet had worn off. He picked up his pen half heartedly, wondering whether he could find something more to write in the diary. Suddenly he began thinking of O’Brien again.
Years ago – how long was it? Seven years it must be – he had dreamed that he was walking through a pitch dark room. And someone sitting to one side of him had said as he passed: ‘We shall meet in the place where there is no darkness.’ It was said very quietly, almost casually – a statement, not a command. He had walked on without pausing. What was curious was that at the time, in the dream, the words had not made much impression on him. It was only later and by degrees that they had seemed to take on significance. He could not now remember whether it was before or after having the dream that he had seen O’Brien for the first time, nor could he remember when he had first identified the voice as O’Brien’s. But at any rate the identification existed. It was O’Brien who had spoken to him out of the dark.
Winston had never been able to feel sure – even after this morning’s flash of the eyes it was still impossible to be sure whether O’Brien was a friend or an enemy. Nor did it even seem to matter greatly. There was a link of understanding between them, more important than affection or partisanship.
“We shall meet in the place where there is no darkness,” he had said.
Winston did not know what it meant, only that in some way or another it would come true.
The voice from the telescreen paused. A trumpet call, clear and beautiful, floated into the stagnant air. The voice continued raspingly:
“Attention! Your attention, please! A newsflash has this moment arrived from the Malabar front. Our forces in South India have won a glorious victory. I am authorized to say that the action we are now reporting may well bring the war within measurable distance of its end. Here is the newsflash —”
Bad news coming, thought Winston. And sure enough, following on a gory description of the annihilation of a Eurasian army, with stupendous figures of killed and prisoners, came the announcement that, as from next week, the chocolate ration would be reduced from thirty grammes to twenty.