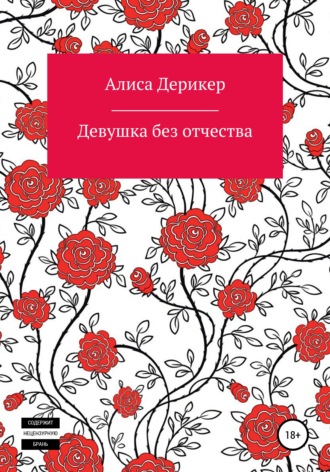
Полная версия
Девушка без отчества
Как это грустно – уметь распознавать свои чувства исключительно через тело. Бежать, бежать и бежать, и только падая с ног понимать, что ты устал. Фиксироваться на количестве вдохов, на сокращении мышц, на ногах, отталкивающихся от земли – и полностью игнорировать тот страх, или то желание, что и являются причиной бега. Очень печально».
В дневнике было двадцать две страницы по несколько десятков записей на каждой. Записи были разной длины – были совсем коротенькие, в пару предложений, в основном они назывались «инсайты» или «мысли», а были длинные, на пару страниц А4. Я впивалась глазами в монитор и читала, читала, ничего не пропуская.
«Фотография – это настоящая магия! Как-то всё более или менее ясно с врачами, бухгалтерами, плотниками, сантехниками – да со всеми, кто работает руками. Люди учатся что-то делать и потому делают это хорошо, гораздо лучше, чем ты – это понятно и логично. У них есть специальные инструменты для этого, какие-то особые профессиональные штуки, специальные приборы, а у фотографов только их глаза и фотоаппарат. И ведь самое главное – мы все видим одну и ту же картинку! Одну и ту же… Но один снимает её так, что вообще ничего не понятно, а у другого шедевр. А самое главное, что тут результат – это и есть сам процесс! Врач назначает хитроумные анализы, изучает их, бухгалтер работает с цифрами, сантехник знает, где и что надо завернуть и каким ключом это надо делать, а тут один взгляд, щёлчок затвора – и перед тобой произведение искусства. Всё на виду, всё на ладони! Ты смотришь на готовую фотографию, видишь, что предмет на переднем плане как бы выхвачен камерой, а фон сзади размыт. Но почему ты чувствуешь то, что хотел показать тебе фотограф? Как он передаёт тебе свои эмоции?
Кажется, это легко? А ты попробуй повтори – возьми в руки тот же фотоаппарат и попробуй снять так же. Секрет в фотоаппарате, во вспышках, отражателях? Да ну! Я видела такие снимки на камеру обычного телефона, что просто дыхание перехватывает. Попробуешь повторить, а не то получается, совсем не то. Это потрясающее волшебство – это умение видеть, видеть красоту, уметь её поймать.
Ты видишь оригинал, видишь результат – они одинаковы, и в то же время разные. Ты видишь, чем они отличаются, и совершенно не представляешь чем именно и как это повторить. А главное, что тут нет ничего, никаких хитростей – только глаз фотографа. Вот это и есть настоящее волшебство».
Надо же, а я никогда и не думала, что мама так восхищается фотографией. А там на Винзаводе сейчас как раз выставка хорошая идёт, ей бы понравилось, наверное. И ведь ещё неделю назад мы могли бы вместе сходить…
«То чувство, когда впервые читаешь о приключениях Шерлока Холмса. Или впервые идёшь на концерт. Впервые смотришь the Wall.
Потом всё пытаешься развернуться, и попасть туда, где это всё было впервые, а всё не то. Смотришь, слушаешь, читаешь, но ведь уже знаешь, что будет дальше. И чем дальше живёшь, тем больше того, что ты уже где-то слышал, где-то видел и где-то читал. Нет этого ощущения новизны…
Пытаешься воскресить то чувство, но нет. Такого не испытать дважды. Кажется, что я всё помню – руки, губы, слова, но нет. Я пытаюсь вспомнить, хотя бы вспомнить, не то, чтобы заново пережить! но это невозможно так же, как нельзя вернуть вчерашний день».
Это, интересно, о чём было? Руки, губы, слова…
Я ждала пояснений, но какое там! Дальше шли мамины размышления об Антигоне. Она ходила на спектакль без меня, судя по записи, с какой-то коллегой. Губы, руки? Нет, что-то мне не верилось.
Потом шли мысли на разные профессиональные темы: у неё была клиентка, сын которой сидел за непредумышленное убийство, и ещё одна, которую мужчина бросил ради её же дочери. Мама много размышляла об этом и с психологической, и с этической точки зрения, и даже сравнивала два этих случая. И я поняла, почему её дневник был закрыт – клиенты вряд ли бы обрадовались, если бы она обсуждала их вслух. Нечаянно набрёл бы на такое в интернете – и всё. Раскрытие профессиональной тайны, скандал и прощай репутация, прощай запись на две недели вперёд.
А вот в одном месте у меня вдруг ёкнуло сердце: запись примерно трехнедельной давности.
«Вчера пришлось отменить всех клиентов. Голова болела так, что не могла работать, и болит ведь, зараза, всегда в одном и том же месте. Вот так-то, даже страшно делается. Ощущение такое, будто внутри моего мозга лежит бомба, а я слышу, как тикает часовой механизм – там уже заведён таймер. От этого становится жутко страшно. Страх похож на медузу: холодный, склизкий, бесформенный, но с парализующим ядом.
Таблетки не помогают, темнота больше не спасает, кажется, что ещё чуть-чуть и голова просто лопнет и разлетится на маленькие осколки. Ой, мама, это даже больнее, чем рожать! Вчера голова болела семь часов. Семь часов без перерыва! Это почти полный рабочий день. Сегодня – пять. В итоге два дня просто вычеркнуты из жизни, а так ли много мне осталось? Два дня посвящены боли и лежанию на диване.
В такие дни, кажется, что смерть милосердна. Кажется, что просто умереть – это ещё не самый плохой вариант. Единственное, чего я боюсь – это выжить после инсульта. Остаться парализованной, немой, потерять работу, потерять самостоятельность и стать обузой для Вики. Хотелось бы, чтобы всё случилось быстро, и да, очень трусливо, но мне хочется ничего не почувствовать».
Мама, мама… Как же так? Почему хорошие люди должны так страдать? Она писала об этом в своём дневнике. Там было ещё много про головную боль.
Запись от 28 февраля. Три недели назад.
«Сегодня упала в обморок на улице прямо перед кабинетом. Второй обморок за месяц. Судя по всему, меня подхватил кто-то из прохожих, я даже не запачкалась. Пришла в себя быстро, но голова потом гудела и весь день была какая-то чугунная. Я помню, у мамы был такой ярко-оранжевый чугунный горшок для каши, она его так и называла – чугунок. Он был такой, как в детских книжках: снижу поуже, потом пошире и сверху опять поуже, для ухвата, чтобы ставить в печь. И он был жутко неудобный, потому что тяжелый и взять его можно было только полотенцем, если брать прихваткой – мог выскользнуть, ручек-то нет. Так вот, моя голова весь день была в точности как тот горшок: тяжелая и неподдающаяся. Я ей таблетку – а она всё равно болит».
И вот ещё раньше:
«Теперь я понимаю, почему говорят «адски» болит голова. Потому что это действительно адская боль. Абсолютно невозможно думать, контейнировать, сопереживать – жить. Я не могу чувствовать ничего, кроме этой боли, она вытесняет собой всё. Самое страшное, что и всё хорошее тоже. Ничего невозможно делать.
Вот же бывает ведь так: какой-то маленький сосудик не в порядке, совсем крошечный, а проблемы от этого гигантские. Сколько она там? Не помню. И память стала подводить, вот же ужас.. я забываю имена клиентов. Забываю назначенные встречи и забываю, что хотела купить в магазине. Это просто какой-то кошмарный сон…
Клипирование невозможно и что-то там ещё тоже невозможно. Такое вот коварное месторасположение у неё.
Поговорила со своим супервизором, пришли с ним к выводу, что это моя вина, даже – Вина, вот такая вот, вселенского масштаба. Доктор, конечно, с этим бы не согласился, у них там своих причин – не перечесть, но мне кажется – это, в самом деле, от того, что я пыталась брать на себя больше, чем могла вытянуть – я себя надорвала. Сначала надорвала, а потом сгрызла, упрекая за то, что взвалила на себя ношу, которую не вытянула.
Я пыталась быть супер-мамой, но правда в том, что я не могу быть ей и мамой, и папой одновременно. Но что я тут могла поделать? Мы выживали, как могли.
Он не был записан её отцом, Он не мог (да честно говоря, и не очень-то хотел) с ней общаться, ну, хорошо – и я тоже не слишком этого хотела, нам всем было удобно так, как оно было. Только вот я всё-таки себя чувствовала ответственной перед Викой, а потом моя ответственность росла-росла, раздувалась и превратилась в Вину.
Жаль только, что мне от этого осознания ни насколько не легче. Сейчас-то уже что? Супервизор говорит: «вы свои цели все выполнили, вас тут больше ничего не держит, поэтому вы отпустили вожжи и теперь кони понесли». Похоже на то: операция невозможна, а значит, я уже больше ничего не могу сделать для себя».
Моя бедная, бедная мамочка. Но это было ещё не всё. Я читала записи назад, от более ранних к более поздним, и тут меня ждал сюрприз за сюрпризом.
1 ноября: «До сих пор трясутся руки. Страшно. Не знаю, как сказать маме и Вике. Я больна. Я очень серьёзно больна.
Когда я ходила к неврологу, она и заподозрить не могла, что моя головная боль может иметь такую серьёзную причину. Аневризма. Это что-то вроде выпуклости у сосуда там, где её быть не должно. Раньше бывали такие дефектные воздушные шарики: в одно месте у них резина тоньше, и когда надуваешь, то сбоку неожиданно вылезает какой-то пупырь. Вот это что-то вроде того.
Всё очень и очень серьёзно. Аневризма внутренней сонной артерии – её просто так не достать. Доктор предложил операцию, но… Но там слишком много «но». Мне дали время. Сказали: «думайте». В таких случаях вероятность разрыва не так уж и велика, время ещё ждёт. У меня есть примерно год, но доктора не советовали затягивать. Аневризма не маленькая, симптоматика не уйдет, скорее наоборот, будет нарастать. И аневризма будет расти.
Страшное чувство, когда ты, словно пирожок на противне, заезжаешь в печь – в разверзнутую пасть аппарата МРТ. У меня нет клаустрофобии, но чувство было не из приятных. Но это ещё цветочки, самый ужас – это когда ты понимаешь, что хорошего исхода нет. Просто нет. Тебе предстоит выбирать из плохого и плохого.
Итак, вариант первый – забить. Тогда это просто вопрос времени. Постепенно я превращусь в овощ, перестану нормально соображать, а аневризма рано или поздно не выдержит. Возможен инсульт, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Единственное хорошее в этом раскладе, это может произойти лет через -цать. Правда, ключевое слово – может.
Вариант второй – оперироваться. Операция будет, как выразился доктор, открытая. То есть мне распилят череп. Сделают трепанацию. Вероятность летального исхода после операции 10-15%. Это немало. То есть я могу ещё и умереть, если не на столе, под ножом, то сразу после.
Но если я не умру в первые сутки после операции, дальше всё тоже не так уж радужно. Инвалидность. Снижение когнитивных функций. Длительная реабилитация. Я никогда уже не буду прежней. Никогда не буду собой. Возможно, я не смогу работать. Когда доктор узнал, что я психолог, он покачал головой и перестал давить на необходимость оперироваться. Меня это испугало. Очень сильно испугало. Похоже, он великолепно понимает, что эта операция – крест на моей работе.
Мне очень-очень страшно. Мне нужно будет принимать решение, которое в любом случае будет плохим решением, и затягивание – это тоже выбор. Пока что я в состоянии фрустрации, но мне придётся как-то это принять. У меня аневризма. Я или скоро умру, или останусь навсегда инвалидом».
Мне стало почему-то очень холодно. Я огляделась, открыла шкаф и достала первое, что попалось под руку – мамину кофту. Кофта пахла мамой. Я закуталась, и мне стало так жаль её, что я не выдержала. Мама, мамочка… Ты боялась остаться овощем. Боялась стать обузой для нас, для меня. Ты могла бы прооперироваться, и тогда был бы шанс, хоть какой-то шанс! Но ты не стала. Мама! А как мне сейчас хочется, чтобы ты была со мной. Живая. Я бы ухаживала за тобой, даже если бы мне было тяжело. Я бы хотела, чтобы ты была здорова. Как это страшно оставаться одной…
Когда я успокоилась, решила поискать что-нибудь более жизнеутверждающее. Я уже не могла больше плакать, слез не было. Хотелось найти и почитать что-то хорошее.
И я нашла. Это было наше с мамой путешествие в Париж. Я поступила в институт, и на радостях, и в подарок за это, мама решила, что нам нужно съездить во Францию. Тогда ещё не случилось этого страшного пожара в Нотр-Даме и мы поднимались на самый верх, и стояли там, глядя на солнечный город, а ветер трепал нам волосы.
Это были замечательные каникулы: мы ездили в Диснейленд, гуляли по Елисейским полям, поднимались на Эйфилеву башню, дважды ходили в Лувр, и даже съездили с экскурсией в Версаль.
И вот в том самом месте, про Версаль, мама пишет, что на секунду в толпе ей показался Он. Она так и пишет – «Он», с большой буквы. Правда, она быстро поняла, что обозналась, но дальше она рассуждает об этом, ссылается почему-то на Фрейда, и заканчивает абзац вопросом «может быть, я всё ещё люблю?»…
Я перечитала этот отрезок три раза. Кто такой «Он»? Мой отец? Это его она имела в виду? У меня из головы не шла её фраза – «встретиться он хочет». Почти двадцать лет не хотел, а теперь объявился? У меня были смешанные чувства: и злость, и любопытство, и обида, и ощущение какой-то ущербности – мне недодали. Должны были дать, а не дали. Хотелось накричать на него, но чтобы накричать, его ещё нужно было найти…
Найти. И я поняла, что если и есть ключ, способный пролить свет на её прошлое, на моё прошлое – это дневник. На двадцати страницах записей не может не быть упоминаний об отце. О Нём. А мне бы так хотелось найти его, ведь кроме бабушки у меня больше не осталось ни одного родного человека.
Найти отца. Эта мысль меня захватила. Я не могла вернуть маму, но я могла отыскать папу.
Весь день я провела дома, а вечером я забежала к бабушке. БабВера уехала, а бабВаля осталась, решили, что она уедет после девяти дней, после вторых поминок. БабВаля уже ушла в комнату спать, и мы с бабушкой сели вдвоём на кухне. Бабушка охала и причитала.
– Господи, за что? За что мне такое испытание, гоо-оос-паа-аади-иии, – и она заливалась слезами, ну и я вместе с ней.
Потом она резко встала, оттолкнув стул, и уверенным движением поставила чайник. Электрических приборов бабушка боялась. У неё был новый чайник, но он стоял в коробке на антресолях. Мама подарила ей его на какой-то Новый год, а бабушка им никогда не пользовалась. Сказала, чайник на плите – это и привычней, и уютней, и безопасней. Мы жили в старом районе, а бабушка ещё и в старом доме, и у неё был газ. И старую газовую плиту она считала безопасней электрического чайника.
– Ба, расскажи про папу, – потребовала я.
– А чё про него рассказывать? Я его видела два раза в жизни, и оба до твоего рождения. А как ты родилась, так он и вовсе не появлялся. Тьфу. Сами вырастили тебя.
– Я понимаю, но ты же видела его? Какой он?
– Да никакой, – бабушка громыхнула чайником об плиту, – что ты спрашиваешь? Не знаю я. Не помню. Глядишь, не развелась бы Сонька, может, всё бы и по-другому бы вышло…
– При чём здесь «развелась»? – опешила я.
– Борька бы её может заставил бы к врачу сходить.
– Ба, да ходила она к врачу! Ничего тут не зависело от врача…
Мне стало горько. Как она не понимает?
– Как у тебя всё просто! Ходила она к врачу… Борька бы её заставил! Другого врача бы нашли. Денег бы дали. Вылечили бы. Глядишь бы и не сгорела бы так быстро, – голос у бабушки задрожал, – моя деточка… Вот ведь… душегубы… врачи-кричи-не кричи… а, – она махнула рукой, – пустое…
Мы замолчали. Бабушка вытирала слёзы фартуком, я просто сидела. На плите стоял чайник. Сначала было тихо, а потом он начал шептать что-то на своём чайничьем. Бабушка была права: это тихое сопение и правда умиротворяло.
– Пойти что ли Вальку позвать? – спросила бабушка саму себя. Встала, но потом села. – А, она уже спит поди. Чашки достань.
Я достала чашки, блюдца, подумала, достала ещё и ложечки. Подумала, и решила зайти с другой стороны.
– Ба, а почему на похоронах никого из маминых друзей не было?
– Как не было? А Иринка? А Нюрка?
И снова холостой выстрел. Нет, не то. Я помолчала, вспоминая. У мамы все были приятельницами. С одной она познакомилась на отдыхе, с другой они вместе работали, но это всё было не то. Мне нужно было найти маминых друзей, потому что они могли рассказать мне о маме. И о папе.
– Ба, а в институте у мамы подруги были?
– Была одна. Рассорились они вроде потом.
Понятно, безрадостно подумала я.
– Ба, а подругу-то как звали?
– Каку подругу?
– Мамину. Ту с которой рассорились.
– А, так Еленой вроде звали. У неё одна подруга-то и была. Маруська вот ещё потом появилась – вместе с колясками гуляли они. А больше Сонька не приводила никого. Она с детства такая – другие дети к сверстникам тянутся, а она всегда одна играла. Сядет в песочницу и куличики лепит. Вокруг мальчишки бегают, девчонки в резиночку прыгают, а она сидит себе одна и играет, – и бабушка снова заплакала тихо-тихо, промокая глаза краешком фартука.
Я вернулась от бабушки вечером. Кто входил хоть раз в пустую тёмную квартиру – знает, как это неприятно. Я везде включила свет. В каждой комнате. Я включила радио – тишина была непереносимой. Сходила в душ, легла, но потом снова встала: спать было невозможно. Ходить в пижаме было холодно, и я закуталась в мамину кофту, ту самую, белую, что вытащила из шкафа днём, надела тёплые носки и заварила себе чай.
Шел второй час ночи, а у меня сна не было ни в одном глазу. Институт, завтра же в институт… Да, у нас всего одна лекция, но на ней обычно отмечают, а потом спрашивают конспекты у тех, кто не был. А и чёрт с ним.
Чтобы поехать в институт нужно было привести себя в порядок: накраситься или хотя бы найти чистую одежду, счистить грязь с ботинок (на кладбище было ужасно грязно), а я не могла сделать столько всего. У меня просто не было сил. Я только то и могла, что сидеть за ноутбуком, вооружившись листом бумаги и ручкой, и читать мамин дневник.
Было что-то неправильное в том, что ни для кого из моей группы ничего не изменилось: люди всё так же ходили на пары, слушали лекции, обсуждали преподов, презирали ботанов-всезнаек, а у меня рухнул мир. Противно. Всё это было как-то противно.
Хотелось бросить им всем в лицо, что я их ненавижу и презираю. Почему? Я не знала сама. Может быть, потому что у них ничего не изменилось. Их не тронула смерть моей мамы, никого из них, кроме бабушки и дяди Бори. Вон даже бабВера к своим уже уехала.
Я смотрела в окно: люди всё так же гуляли по улицам, ходили в магазин, в кино и в кафе, мои сокурсники слушали лекции, а я не могла. Мне даже дышать стало труднее, с тех пор, как мамы не стало. Как можно делать вид, будто ничего не произошло?
Хорошо, что фон у маминого дневника был тёмным: было легко читать его именно ночью. И ещё он попадал в моё настроение. Правда, читать оказалось тяжело: мама в целях конспирации даже в закрытом дневнике почти не упоминала имён. Я охотилась за этим таинственным мужчиной, скрывающимся под кличкой «Он», но, похоже, что были ещё и другие.
Например: «Этот не такой как Б., и не такой, каким был Он. Мы сходили в кафе на прошлой неделе, но на этом всё и кончится. Мне не хочется продолжать это знакомство, потому что ему не хочется считаться с моими границами».
И ещё: «Очередное свидание. Два часа потерянного времени. О чём можно говорить с человеком, который самым крутым фильмом считает сериал, о, я даже название забыла!, и впервые читает «Мастера и Маргариту» в сорок шесть лет?».
«Когда-то я смирилась с тем, что могу сказать о себе "десять лет назад" и попаду в сознательный возраст. Сегодня я уже говорю "двадцать лет назад", и попадаю в границу своей юности и взрослой жизни. И меня это пугает. Может, у меня просто молодость была короткая?
Радио создает иллюзию того, что мир вокруг меня неизменен: десять лет они крутят одни и те же песни, иногда разбавляя их чем-то "новеньким" на что ты неизбежно думаешь "фигня какая-то, группа-однодневка", проходит год-два и эта «фигня» и правда пропадает из эфира, а её место занимают другие такие же бабочки-однодневки, но, в целом, репертуар не меняется, и кажется, будто и ты, его слушающий, тоже не меняешься.
Ты продолжаешь считать, что где-то ещё продают гриндерсы и камелоты, что кто-то их еще носит, и ходит в походы, в которых люди сидят на брёвнышке у костра, а налобные фонари – это крутое освещение.
Ты веришь, что где-то, в ларьках и палатках, еще продают коктейли в алюминиевых банках: стрит, хуч, ягуар, а кто-то, пришедший тебе на смену, их до сих пор пьёт. Ты веришь, что Матрица – наикрутейший фильм, а нынешнее поколение о ней даже не знает! Ты думаешь, кумиры нынешней молодёжи те же, что и у тебя, но всё это – иллюзия. Нет больше того мира, где играли в эльфов и хоббитов деревянными мечами, потому что ничего другого не было; где орали под гитару "всё идет по плану", где жгли костры; где были неизвестные песни, исполнителя которых нужно было ещё искать, а музыку добывали и берегли, как огонь; где мир был настолько суров, что никому не приходило в голову ходить зимой в кедах без носков.
Радио поддерживает иллюзию, что ты можешь сказать "а вот десять лет назад" вместо двадцати.... но это только иллюзия. Тот мир с растворимым кофе, без бумажных стаканчиков на вынос, без сотовых, тот мир романтики, в котором еще было место звездному небу и совам, летающим у метро, тот мир уже мёртв.
Я бы хотела увидеть Его. Посмотреть, как Он изменился за эти годы. Вспомнить вместе с ним тот мир, которого больше никто не знает».
Моя мама была странным психологом: она проливала свет на чужую жизнь, а свою прятала в тени. Удивительно, как ей удалось всё так зашифровать, что теперь и не разберёшься. Или она это не специально? Может, это как клубок ниток: оставляешь вязание в пакете на неделю, а когда достаёшь – там сплошной колтун. У меня так было, когда я вязала на уроках труда. Смотришь на этот колтун, и отчего он образовался, вообще никому не понятно.
Мне было интересно, какой она была. Моя мама – она ведь когда-то была не моей мамой, в смысле, она была просто девушкой, которая понятия не имела, что родит именно меня. Она так же, как и я не любила философию? Нет, судя по её текстам, с философией у неё всё было нормально, это я её терпеть не могу. А Она любила танцевать? Ходила в бильярдную или в боулинг, как ходили мы с ребятами? Она пила кофе или мате? Прогуливала ли лекции? И, если да, то что делала в это время?
И я решила читать наоборот, не с конца к началу, а с начала к концу – ведь это гораздо логичней. Я щёлкнула на самую первую страницу, пролистала к самой первой записи – 2 февраля 1999 года (прошлый век, подумать только). Запись была лаконичной: «сегодня я начинаю вести дневник, посмотрим, что из этого выйдет». Потом была ещё какая-то мутная заметка о сне, которую я не поняла, описание семейного торжества, впечатления от «Матрицы» – ничего действительно интересного, но я зачиталась. Мне стало любопытно, какой была моя мама тогда, на третьем курсе. Я же правильно посчитала, в 1999 она была на третьем курсе?
11 марта 1999: «Я вот тут подумала, что в любом институте, на любом факультете среди студентов всегда есть случайные люди. Они получают образование, но потом не работают по специальности ни дня, ну, просто так получилось, что каким-то ветром их занесло туда, куда занесло: их поступили в этот ВУЗ родители, или будущая профессия виделась другой, или просто это было модное направление, как когда-то инженеры и космонавтика. Сейчас вот, стоматология в моде. Пройдёт ещё лет десять-двадцать, и стоматологов девать будет некуда.
У нас такой случайный человек был. Это, конечно, Косулин. Никому вообще не было ясно, что он тут забыл. А вот теперь оказывается, Влад: он на социологию вслед за Ленкой перевёлся. Я бы к случайным, пожалуй, ещё и Перчика бы причислила.
Я это сегодня поняла, на семинаре по подросткам. Ну такую пургу гнать это же надо было три года просто не слушать вообще ничего, уши заткнуть на три года! Я как представила, что к ней родители своих подростков приводить будут, мне аж плохо стало… А ещё она Фромма и Эриксона путает. А ведь единственное, что их связывает, это имя Эрик».
1 апреля 1999: «Идиотский день. Домовой, чтоб ему было неладно, обзвонил всех накануне и сказал, что колок по психиатрии передвинули с 12 на 8. И ведь звонил же, наглец, в первом часу ночи – знал, что никто не спит, все готовятся. И так перед мамой извинялся (это она трубку взяла), что она аж растаяла. Какой, говорит, милейший молодой человек тебе звонит, такой воспитанный, ну такой вежливый!
Позвонил, сказал, что всем надо быть к 8 утра, потому что Тошечка будет отмечать и злостно карать за опоздания (это мы, положим, и без него знали, что на психиатрию лучше умереть, но прийти). И я как дура припёрлась. Все припёрлись, кроме Домового и Тошечки. А он вообще был не в курсе! Когда его разыскали на кафедре, он так хохотал! Что, говорит, разыграли вас, дураков? Так вам и надо. Сидите и учите, до 12 время есть.
Заставили Домового отвечать последним, но этого мало. Думаем теперь, как отомстить. Тихоня тихоней, а такое выкинул…»







