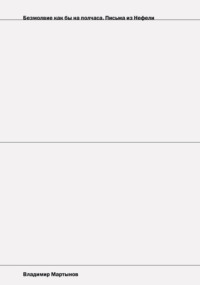Полная версия
Казус Vita Nova
Это положение начало постепенно меняться ко времени моего окончания музыкальной школы и поступления в училище. Здесь совпало сразу несколько событий личной и общественно-музыкальной жизни. Все началось с того, что благодаря папе мне досталась подборка, состоящая из почти что трех десятков пластинок «Archiv production», содержащих записи музыки XI–XVII веков от григорианики и Перотина Великого до Бибера и Шмельцера. Ничего подобного ни у кого в Москве тогда не было, и это даровало мне совершенно уникальный по тем временам слуховой опыт общения с готической, ренессансной и барочной музыкой. Вскоре и у нас стали продаваться пластинки с записями Ванды Ландовской, Киркпатрика, Муцлингера, Ружичковой и других исполнителей музыки XVI–XVII веков. Примерно в это же время состоялись концерты американского ансамбля старинной музыки под управлением Ноа Гринберга и первые концерты Волконского с его «Мадригалом». Тогда же моими «настольными» нотами стали три тома Гийома де Машо, собрание ренессансной музыки Анри Экспера, хрестоматии Иванова-Борецкого и Шеринга, тома «Musica Britannica» с Данстейблом и Джоном Буллем, гармонические перечения которого наряду с хроматизмами Джезуальдо и параллельными квинтами Перотина воспринимались мной как ниспровержение теоретико-композиторских основ классической музыки. Импульс ниспровержения этих основ исходил для меня и с другой стороны – со стороны Стравинского, Бартока, Хиндемита и Айвза, с музыкой которых я начал активно знакомиться, в результате чего фигуры Прокофьева и Шостаковича переместились в моем сознании на второй или даже на третий план. Если Прокофьев и Шостакович воспринимались мной как «современные классики», то есть как композиторы, находящиеся в пространстве классической музыки, то Барток, Айвз и в особенности Стравинский представлялись мне создателями принципиально иной, «новой», или «современной», музыки, строящейся на принципах, отличных от классических принципов. Таким образом, единое пространство музыки распалось для меня на три самостоятельных пространства: на «старинную», «классическую» и «современную» музыку, в результате чего отвечать на вопрос «Что такое музыка?» стало гораздо труднее. Во всяком случае, ответ на этот вопрос оказалось необходимо предварять другим вопросом: «А какая музыка имеется в виду – старинная, классическая или современная?»
Однако для меня дело не ограничилось распадом единого музыкального пространства только на старинную, классическую и современную музыку, ибо с поступлением в училище передо мной все явственнее и явственнее стало материализоваться пространство джаза. Сам я не владел навыками джазовой импровизации, но некоторые из моих новых друзей так преуспевали в этом, что принимали участие в джем-сейшенах с такими джазовыми корифеями, как Лукьянов, Пищиков, Козлов, Громин, Марков или Чижик. В то время в Москве было несколько джазовых кафе – «Молодежное», «Синяя птица» и «Ритм», где еженедельно происходили джазовые сборища, на которых можно было непосредственно соприкоснуться с практикой джазового музицирования. Но, конечно же, они не могли сравниться с тем впечатлением, которое производили записи Питерсона, Колтрейна или Монка. Как бы то ни было, но соприкосновение с джазом еще более усложняло ответ на вопрос «Что такое музыка?», ибо некогда единое музыкальное пространство становилось еще более многосложным и многомерным. Причем в отличие от старинной, классической и современной музыки джаз представлял собой нетекстовую и некомпозиторскую музыкальную практику, в силу чего применять к нему методы описания и анализа, принятые в теоретико-исторических музыкальных дисциплинах, становилось достаточно проблематично.
В ситуации, в которой для ответа на вопрос «Что такое музыка?» ресурсов теории и истории музыки становится явно недостаточно, не остается ничего другого, как пытаться обратиться к иным областям знания и к иным дисциплинам. Если теория и история музыки занимаются изучением музыкальных форм самих по себе, то эта новая область знания должна была бы заняться изучением форм существования музыкальных форм. Формы существования музыкальных форм есть не что иное, как социально-бытовые формы жизни и поведения, которые предопределяют природу музыкальных форм, и поэтому эта новая область знания или новая дисциплина есть не что иное, как музыкальная социология. И поэтому, наверное, совершенно не случайно именно в это время появился фундаментальный труд Теодора Адорно «Введение в социологию музыки», превративший музыкальную социологию из прикладной статистической дисциплины в одну из основополагающих областей знания о музыке, без учета которой ответить на вопрос «Что такое музыка?» стало практически невозможно.
Следующий этап дробления некогда единого музыкального пространства совпал для меня с моим поступлением в консерваторию в 1965 году, ибо именно с этого момента антагонизм между старинной, классической и современной музыкой стал переживаться мной все острее и острее. В это время я начал активно изучать партитуры Веберна, но что, наверное, еще важнее – в это время я начал активно соприкасаться с музыкой композиторов «второго авангарда», то есть с музыкой Штокхаузена, Булеза, Ксенакиса, Берио, Лигети, Кагеля и Кейджа. Если музыка Стравинского, Шёнберга, Бартока и Айвза воспринималась мной как продолжение и развитие – пусть порою радикальное и парадоксальное – классической музыки, то музыка второго авангарда – не иначе как полное отрицание и ниспровержение всех классических норм, особенно это можно было отнести к Штокхаузену, Кагелю и Кейджу. Более того, вопрос можно было поставить и более жестко: если одно считается музыкой, то тогда другое таковой уже как бы и перестает являться. Во всяком случае, я сам неоднократно слышал от наиболее авторитетных и именитых исполнителей классической музыки – Нейгауза, Ойстраха, Зака, Флиера: «Это не музыка» – по поводу какого-нибудь опуса Кагеля или Штокхаузена.
В 1970-е годы, когда музыкальный мир буквально захлестнула волна аутентического исполнительства, на гребне которой засверкали имена Кёйкена, Хогвуда, Саваля, Арнонкура и других блестящих дирижеров и инструменталистов, не менее драматические взаимоотношения начали складываться и у классической музыки с музыкой старинной. На наш круг и на меня лично открытие аутентики произвело, наверное, такое же шоковое впечатление, какое в начале прошлого века могло произвести открытие русской иконы. Подобно тому, как под снятыми слоями многовековой копоти и грязи открылись первозданные, радостные и праздничные краски иконы, так, освободившись от жирного академического вибрато и вагнеро-малеровской помпезности, барочная музыка открыла свою изначальную упругую, четко артикулированную природу. Казалось, что в аутентике музыка являет сама себя, а все остальное представляет собой лишь досадные позднейшие напластования. Да и сама аутентика вела себя достаточно агрессивно: сначала она вывела из-под юрисдикции и, соответственно, из компетенции академической классики всего Баха и всю барочную музыку, практически запретив неаутентическим исполнителям появляться на этой территории, а затем начала простирать свои претензии и на Моцарта, и на Бетховена, и на Шуберта. Продолжая двигаться в этом направлении, можно было подумать, что и Малер играется теперь как-то не совсем аутентично, подтверждением чего могли послужить части симфоний Малера, переложенные Шёнбергом для камерного состава. Как бы то ни было, но претензии эти заходили так далеко, что иногда начинало казаться, будто классическая музыка – это всего лишь некая позднейшая иллюзия, возникшая в результате отступлений от принципов аутентики.
Однако напряженности, возникающие между барочной, классической и современной музыкой, оказались лишь детским лепетом в сравнении с рок-революцией, разразившейся в середине 1960-х годов прошлого века. Я не буду сейчас много распространяться по поводу этой революции и ее последствий, скажу только, что «Битлз», «Роллинг Стоунз», Джимми Хендрикс и Роберт Фрипп не только изменили лицо мира (с чем невозможно спорить), но и оказали значительное влияние на статус и месторасположение музыки в культурном пространстве мира. Ошибаются те завсегдатаи концертов в филармонических залах, которые полагают, что рок-концерт, проходящий по соседству на стотысячном стадионе или в многотысячном дворце спорта, не оказывает никакого влияния ни на природу классической музыки, ни на них самих даже в том случае, если о рок-музыке они ничего и знать не хотят. Рок-музыка – это одно из наиболее фундаментальных музыкальных явлений ХХ века, как бы кто к этому ни относился.
Но лично для меня живое соприкосновение с фольклором явилось не менее, а может быть, даже и более значимым, чем откровение рок-музыки. Первая же моя фольклорная экспедиция, в которой я оказался в 1968 году, как и первая моя встреча с Ефимом Тарасовичем Сапелкиным изменили не только мое отношение к музыке, но изменили саму мою жизнь. Но сейчас я не буду останавливаться на этом личном моменте, а отмечу лишь, что расширение общемузыкального пространства в результате открытия рок-музыки и фольклора просто не могло не изменить природу самой музыки, и теперь отвечать на вопрос «Что такое музыка?» стало еще труднее; и даже привлечение методов музыкальной социологии здесь помочь уже не могло.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.