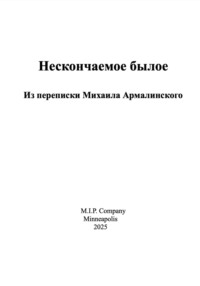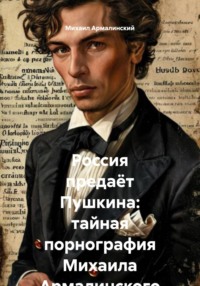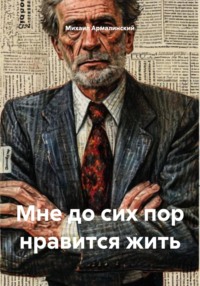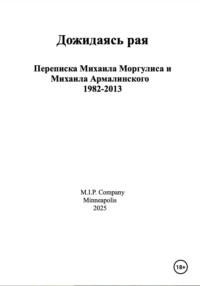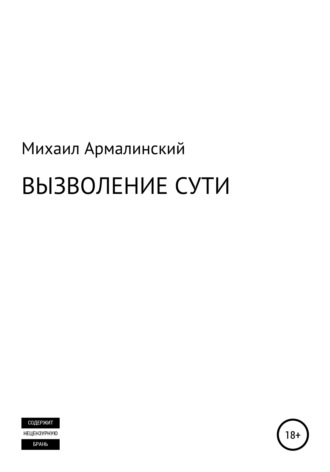 полная версия
полная версияВызволение сути
Так вот, когда в конце 60-х я был членом Совета кафе "Ровесник", что в Ленинграде, кузен наведывался ко мне чтобы получить мой членский билет, который давал право входа в кафе без очереди, когда там выступали музыкальные группы и когда у дверей в кафе топтались толпы. Я ему давал мой билет, если сам в тот вечер не шёл на концерт.
Двоюродный брат был абсолютно чужд литературы, но каждый раз показывал мне свою причастность к ней тем, что к месту и не к месту упоминал о своём знакомстве с литературными гвоздями Питера того времени – с Мишей Гурвичем и Витей Топоровым, как он их звал. Ему очень хотелось, чтобы, благодаря этим частым упоминаниям, у меня да и у всех прочих создалось впечатление, что его знакомство с ними было весьма близким и доверительным.
Сам же двоюродный брат обладал полным отсутствием литературного дара, в чём я убедился, читая его школьное сочинение, получившее первое место в каком-то соревновании. Оно было длинным и состояло из набора клише, стандартных фраз и верноподданных вытяжек из газеты Правда и Блокнота Агитатора.
Но дураком он вовсе не был, ибо неплохо играл в шахматы и соображал в математике.
Вот и всё моё знакомство с Михаилом Ясновым, разумеется, помимо его милых стихов.
А Виктор Топоров умер уже несколько лет назад, и знаком с ним я был получше, ибо он был парапушкинист.25,26
Так завершаются жизни, но не воспоминания.
Моё о немоём
Благообразная научная маска на харе цензуры
Ныне российская (а вовсе не всемирная) паутина цензуры покрыла гуманитарият, но так как в открытую показывать харю цензуры русская власть не осмеливается, именуясь перед всем миром демократией, то народ вымуштровали на самоцензуру. В народ этот также входят и бездари, именуемые учёными.
Вот недавний пример.
В журнале «ФИЛОLOGOS» Выпуск №32 (1) (2017) опубликована статья
Чернышов И.С. ПРОБЛЕМА КАНОНИЧЕСКОГО ТЕКСТА РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО “БЕСЫ”
Никакой “проблемы”, что упомянута в названии статьи, разумеется, нет и в помине. А есть обоснование цензуры на Достоевского, чтобы исключить его “детскую порнографию” из текста романа “Бесы”.
После плохо прожёванной наукообразной болтовни, Чернышов приходит к верноподданническому прогибу:
…публикация главы «У Тихона» в массовом издании романа «Бесы» нежелательна по четырем причинам: она противоречит «автоматически» выраженной воле автора; она дублирует уже задействованный авторский материал; она противоречит «эволюции» творческого замысла автора; она не имеет полностью авторизованного источника.
Я писал подробно о главе У Тихона14 и Чернышов включил мою заметку в список литературы, давая на неё ссылку совершенно неуместно, а лишь по тщетно подавляемой тяге к моей интерпретации сцены соблазнения Матрёши.
Теперь издатели, принимаясь за очередное издание “Бесов”, будут оснащены четырьмя причинами для оправдания сдачи своей профессиональной позиции перед напором цензуры и самоцензуры.
Поиск женщины
17 февраля 1913 года в Нью-Йорке открылась первая в США выставка модернистского искусства, где были представлены все европейские звёзды от Пикассо до Кандинского.
На американскую публику впервые свалилось такая огромная куча новой живописи, и все ошалели, некоторые – от радости, а большинство – от недоумения и возмущения.
Особое внимание привлекла картина Marcel Duchamp Обнажённая, спускающаяся по лестнице 1912.
Народ вперился в холст и пытался вычленить обнажённую женщину из линий и цвета и не мог. Но все упорно и натужно старались, ибо были убеждены, что если им удастся найти в картине обнажённую женщину, то тогда они сразу поймут всё современное искусство.
Если бы картина называлась просто: Женщина, спускающаяся по лестнице, то никто бы на неё не обратил особого внимания.
Однако то, что женщина обнажена вызывало жажду найти и рассмотреть её голое тело – здесь-то можно, это ведь искусство…
Никто не пытался различить лестницу – кому она нужна?
Интересен также и критерий, который выбрал народ для обретения понимания современного искусства – голая женщина. А ведь так и есть: всё искусство вертится вокруг женщин и особенно – голых. Они – основа искусства, ибо не имея возможности ебать любую, художник может любую нарисовать, пригласив позировать. (И потом выебать).
А коль ты зритель, то можешь безнаказанно (искусство ведь) смотреть на голую бабу. В те времена обнажённая натура являлась порнографией.
Таким образом, направлением в познании искусства и основой искусствоведения является фраза Александра Дюма, ставшая вездесущей поговоркой:
Cherchez la femme (Ищите женщину).
Но для точности, поговорка должна бы звучать: Ищите голую женщину.
И от музыки…
В 1973 году мир популярной музыки был потрясён божественной песней Killing Me Softly With His Song в исполнении Roberta Flack.
Песня заворожила людей не только богатейшей мелодией и великолепным исполнением, но и текстом, в особенности фразой Killing Me Softly, смысл которой был романтично туманным. По сей день слушатели пытаются найти её точный смысл и не могут.
Но я нашёл.
Однако, всё по порядку.
Музыку и текст написала вовсе не Roberta, как я поначалу думал, а Charles Fox на слова Norman Gimbel.
В романе Хулио Кортасара Игра в классики герой романа описывает как, слушая в баре американского пианиста, тот "kill us softly with his blues".
Norman Gimbel читая роман, обратил внимание на эту фразу и занёс её себе в записную книжку. Позже, работая с Charles Fox над новой песней, он вспомнил об этой фразе и решил использовать её, но blues звучало старомодно, и он заменил его на song.
Однако история появления этой фразы в песне вовсе не даёт ей точного объяснения. Быть может, в песенном жанре точное объяснение и не нужно. Любовная непонятность слов делает песню только притягательней.
Слушая уж в какой раз эту песню, я вспомнил французский афоризм "оргазм – это маленькая смерть". И тут всё сразу встало на свои места: если оргазм – это смерть, то половой акт есть доведение до оргазма, а значит он является продвижением к "маленькой смерти", что вполне может называться "killing me softly". В данном случае, половой акт был заменён слушанием песни.
Тогда возникает вопрос – может ли женщина испытать оргазм, слушая песню?
Известно, что женщина может испытать оргазм от чего угодно.
Так подтверждается мастурбационность музыки для женщин.
Состарившийся фильм
Taxi Driver (1976)
Первый раз я посмотрел Taxi Driver в январе 1977 года в Риме, в кинотеатре, где шли американские фильмы. Это было за месяц до моего отлёта в США. Впечатление было ослаблено моим плохим знанием разговорного английского языка, но я запомнил как свеженькая Judy Foster млела в медленном танце в объятиях своего сутенёра.
И вот я недавно пересмотрел этот фильм, который сделал звёздами актёра Robert De Niro и режиссёра Martin Scorsese. Моё нынешнее впечатление от фильма свелось к разочарованию за исключением ухмылки от пары удачно сделаных сцен. (Хотя изначально очарования ведь тоже не было.)
Фильм смотрится устарелым, наивным, а чаще – глупым и сводящимся к эмоциональному нулю.
Не вдаваясь в детали содержания фильма, смысл его состоит в том, что определяет причины большинства жестоких убийств в США – это тотальная сексуальная неудовлетворённость в самосозданном одиночестве.
Травис, ветеран вьетнамской войны, нанимается таксистом, чему посвящает практически всё своё свободное время. У него нет женщин и свои сексуальные нужды он удовлетворяет порнографическими фильмами. Быть может, он даже не мастурбирует из-за своих превратных нравственных представлений. Что лишь способствует нарастанию внутреннего психического напряжения.
Желанную красивую девушку, из приличного общества, которая проявила к нему интерес, он ведёт на первое свидание в кинотеатр на порнографический фильм и оскорблённая девушка с ним порывает.
Это фиаско толкает Трависа, балансировавшего на краю, в пропасть сумасшествия. Он накупает пистолеты разных видов и калибров, начинает заниматься тренировкой, а всё для того, чтобы кого-нибудь убить, маскируя свою скопившуюся сексуальную энергию желанием совершить добро.
Сначала он хочет убить кандидата в президенты якобы из-за фальшивости его позиции, а на самом деле, потому что отказавшая ему девушка работала в кампании этого кандидата.
Когда это убийство не удаётся, Травис решает установить справедливость, спасая малолетнюю проститутку. Он красочно убивает её сутенёра и всех причастных.
Однако убожество американского кинематографического формата не может обойтись без "happy end". И под этим подразумевается вовсе не оргазм.
Раненный в перестрелке Травис выживает, родители малолетней проститутки благодарят героя за спасение дочки и сообщают, что она успешно учится в школе, но к сожалению, не рассказывают, как она со своим сексуальным опытом удовлетворяет своих одноклассников.
И самое смешное, что фильм кончается торжеством по-прежнему сексуально неудовлетворённого сумасшедшего: Травису в такси садится девушка, которая похерила его после первого свидания в порнокинотеатре, и с новым интересом к герою даёт понять, что не прочь развести для него ноги. Псих Травис, довозит пассажирку до её дома, гордо отказывается от платы за проезд и уезжает вдаль, оставляя в недоумении и грусти некогда столь желанную красотку.
И вот такой омерзительный фильм стал классикой. Быть может, для своего времени, какие-то операторские кадры были внове. Вполне возможно, что показ жестокости и множественных убийств произвёл впечатление на зрителей тех времён. Но в остальном фильм смотрится ныне как провальный, дурацкий по идее и сумбурный по исполнению. Сухой остаток от этого фильма составляет лишь одна фраза, которую произносит Травис, глядя на себя в зеркало "You talkin' to me?". Эта фраза, как сказал бы Пушкин, вошла в поговорки.
Всё безумное негодование героя в Taxi Driver обращено на язвы и миазмы Нью-Йорка, тогда как ему, герою, нужна была только женщина.
Причём создаётся впечатление, что об этой сути не догадывались сами создатели фильма, а всё, что их интересовало – это детальная демонстрация сумасшедшей жестокости, без всякого понимания или даже интереса к её причинам.
Тогда как в One Flew Over the Cuckoo's Nest налицо вполне осознанная Milos Forman
Милошем Форманом ненависть "сумасшедшего", которая обращена на мораль человеческого общества, казнящее за свободу совокупления с женщиной. И герой фильма попирает эту мораль ценой своей жизни16.
Математически обещанное бессмертие
The Theory of Parallel Universe (2019)
https://www.amazon.com/Theory-Parallel-Universe-Alex-Filippenko/dp/B07Z5GWPP7
Детский интерес к ответам на космологические вопросы остался у меня на всю жизнь и ширился, как сама Вселенная. Но вот оказалось, что вселенных-то не одна, а их чёрт знает сколько.
Тем, кто любит испытывать “головокружение от успехов” (науки), советую посмотреть документальный фильм, который популярно, но всё равно непонятно описывает четыре основные теории многочисленности вселенных.
Даже пытаться пересказать эти теории неловко, настолько они сумасшедшие. Проще посмотреть, сидя у экрана полчаса с открытым ртом, внимая The Theory of Parallel Universe.
Одно удивило меня, что видные учёные, которые рассказывали об этих теориях, ни словом не обмолвились о том, что многочисленные (параллельные) вселенные есть на диву научное воплощение вечных человеческих предчувствий потусторонней жизни.
В фильме показывают как во имя своего спасения от близящегося взрыва нашей вселенной, человечество сможет по особому тоннелю перебежать в соседнюю вселенную и, таким образом, спастись.
А пока не является ли смерть естественным переходом из вселенной жизни во вселенную потусторонней жизни?
Видно, учёные, защищая честь своего мундира, не хотели допустить в интерпретации математических формул религиозную ассоциацию.
А я только радуюсь математическому обоснованию бессмертия души – сразу стало жить не так одиноко и безысходно в одной единственной моновселенной, а весело и разнообразно в переплетении с бесконечным множеством вселенных, будто бы учёные научили, как заменить земную моногамию на космическую оргию.
Расшифровка любви
В 1969 году, в период советской официальной сексуальной затхлости, Валерий Ободзинский стал знаменитым, исполнив Восточную песню, мелодия которой меня по сей день глубоко трогает, но слова в которой были одиозно дурацкие:
В каждой строчке
только точки
после буквы “л”.
Написал их поэт-песенник Онегин Гаджикасимов.
Обыкновенно, отточия ставились в советских книгах при печати матерных слов, которые иногда использовали в своих произведениях классики. Но в песне явно имелось в виду слово “любовь” (хотя цензоры-параноики посчитали. что буква “л” может быть истолкована как Ленин или Леонид Брежнев).
Почему же вполне приличное и литературное слово “любовь” надо зашифровывать точками? И что этим достигалось?
Очевидно, что под “любовью” герой песни подразумевал еблю, и он её так безумно стыдился и ещё безумнее хотел, что боялся писать полностью даже слово, с ней связанное.
Так с помощью отточий любовь отождествили с еблей.
Годом раньше, в 1968-м, во время американской сексуальной революции, зазвучала песня Bob Dylan под названием Love Is Just A Four Letter Word.
Двусмысленность этого названия заключается в том, что фраза “Four letter word” используется как эвфемизм для другого четырёхбуквенного слова fuck. Дилан подметил, что слово love состоит тоже из четырёх букв, и с помощью такого равенства в количестве букв, вылезло наружу тождество смысла слов fuck и love.
Если в Восточной песне, буквы вещего слова заменялись точками, то у Боба Дилана происходил подсчёт букв у тех же вещих слов на английском.
Так почти в одно и то же время на разных сторонах Земли американский великий поэт и советский поэт-песенник пытались расшифровывать, что есть любовь.
И они пришли к одному и тому же выводу: один робко-подсознательно, а другой – вполне осознанно и однозначно.
О сексуальном правдоподобии
Для порядка я посмотрел первую серию первого сезона Game of Thrones. Уж слишком мне все уши прожужжали и глаза просвербили восторгами об этой шекспириаде.
К моему крайнему удивлению, мне весьма понравилась эта псевдо-историческая дребедень. Но раз сделано талантливо, раз умело, раз увлекательно – значит это и не дребедень вовсе, а произведение искусства.
Прежде всего, разумеется, мне бросилось в глаза, что всех женщин там ебут, единообразно стоящих на четвереньках. Это так изготовители сериала решили продемонстрировать аутентичность своей выдумки – мол, только с приходом христианского прозелитства люди обрели вкус к обрабатыванию женщины, лежащей на спине – недаром же эту позицию обозвали "миссионерской". То есть самую популярную позицию ебли оклеветали именем людей, насаждавших религию, которая резко ограничивает и беспощадно запрещает еблю и считает её смертным грехом. Уж слишком много чести "миссионерам" – разрушителям цивилизаций.
Так можно подумать, что до них, люди никогда не еблись "по-людски". А ведь женщины опрокидывались на спину, разведя ноги, со времени "первой любви" гомо сапиенсов.
Скоро сделают сериалы, в которых будут утверждать и показывать, что оральный секс изобрели французы, а анальный – древние греки на пару с маркизом де Садом.
Коль уж изготовителям сериала хотелось достичь правдоподобия сексуальной жизни в древности, то надо было показать всё её современное разнообразие, ибо оно, к счастью, существовало в веках.
Даже без интернета и без вибраторов.
Конкурс – кто выиграл пари: Довлатов или Ефимов?
Игорь Ефимов. Эпистолярный роман с Сергеем Довлатовым. Издательство Захаров, Москва, 2001, 464 с. ISBN 5-8159-0069-9
Довлатов – Ефимову
14 декабря 1982 года
Да, хотите пари на 10 долларов?
Держу пари, что Вы не сможете
при хотя бы одном свидетеле прочесть Марине вслух
стихотворение Армалинского,
опубликованное на 23 странице его сборника! – стр. 222
В эпиграфе речь идёт о моей книжке После прошлого5, вышедшей в издательстве Игоря Ефимова Эрмитаж в 1982 году.
Прочитав цитируемый эпистолярный роман, я срочным порядком запросил Ефимова (cм. выше) о том, кто же из них выиграл пари, но ответа не получил. Неужели Ефимов хочет скрыть от литературной и прочей общественности, кто из двух писателей оказался победителем в этом турнире, выявляющем, с помощью моего стиха, сексуальную смелость перед лицом собственной жены, несмотря на свидетеля?
Но тут есть нерешённая загадка – на странице 23 сборника живёт стихотворение, которое можно без всяких роковых последствий читать вслух любой жене даже при ста свидетелях. Довлатов, видно, по пьяни перепутал страницу, ибо в сборнике действительно есть "поэзы", которые могут посрамить чтеца-декламатора перед невинными очами супруги и винными гляделками собутыльников.
Вот я и предлагаю читателям конкурс: отгадать, какое стихотворение сборника имел в виду Довлатов. Но правильность отгадки может определить не я, а верховный судья, которым является, увы, уже покойный, Ефимов, если он пари проиграл. Однако если он осмелился прочесть жене стихотворение при свидетеле и оказался победителем, то судьями могут быть также жена Ефимова и неведомый свидетель-собутыльник.
При последнем варианте возникает ещё одно приключенческое занятие – найти, кто же был этот свидетель. Или собутыльники? И сколько их было? В какой обстановке проходило осуществление пари и какова была реакция участников? Расплатился ли Довлатов или зажал десятку? То, что Ефимов расплатился при проигрыше – сомнений быть не может. А в случае выигрыша Довлатова, в торжественной ли обстановке происходило вручение Ефимовым десяти долларов победителю?
И главный вопрос – на что эти десять долларов были истрачены? На доброе ли дело? Или опять на пьянку? Или пьянка и доброе дело – это одно и то же?
Видите, как много ещё неизведанного в мире литературоведения и следопытства!
Решение этой загадки, заданной Довлатовым, может стать предметом диссертаций, статей и монографий, а также и художественно-документальных фильмов. Событием рунета это уже стало, раз о нём читали толпы на моём сайте.
А теперь комментарии к переписке Довлатова-Ефимова.
Читая эту книгу, я во многом узнавал себя с разными людьми: я бывал на Ефимовском месте, а разные люди – на Довлатовском. Поистине поразительные внелитературные, житейские сходства. Так и должно быть, конечно: узнаваемость – это одно из самых притягательных для читателя свойство литературы, а в жизни – все мы сделаны из одного теста, сдобного или песочного.
Ефимов по переписке получился человеком безупречным, каким он и мне представляется, за неизбежными маленькими исключениями.
Судя по тому, что имеется в книге, Ефимов порвал с Довлатовым только за то, что тот от Ефимова отстранился. Причём необходимость временного отстранения в близких отношениях Ефимов сам ранее в письме допускает.
Довлатов в своём объяснительном письме привёл столько душещипательных причин своего отстранения и в такой доброжелательной форме, что самое лучшее (но и самое сложное при такой дружеской страсти) было молча дать человеку уйти и опять-таки молча ждать, когда он объявится, а не устраивать сцену ревности. Это – логика, а в болоте эмоциональности получается хлипко наоборот. Сам я через это многократно прошёл, но ещё не знаю, извлёк ли урок. Зато замечать научился.
Весь-то сыр-бор разгорелся из-за обыкновенной ревности: вот Довлатов с другими общается, а со мной перестал и не хочет снова. На тот период ведь никаких претензий в содеянных подлостях у Ефимова к Довлатову не было. То есть, отпусти Ефимов вожжи и дай лошадке попастись вволю, быть может, и сдружились бы вновь. Это не укор Ефимову, не обвинение, а просто фантазии на тему: "что было бы, если бы…"
Другой фактик, вызволяющий Ефимова из монументального воплощения Истины и в то же время её воплотителя, это его внезапная потеря чувства юмора на странице 83, где он спешно оправдывается в примечании, что Ленина ни в коем случае не любит. Ефимов не понял очевидной шутки Довлатова, посылавшего "юбилейный портрет Вашего любимца". Кстати, рисунок Ленина – восхитительный.
Обширное недоумение вызывают купюры, цель которых по заверению Ефимова: "не дать прорваться обидной неправде про живых людей…" (стр. 446). Из этой заботливой фразы можно стремительно заключить, что всё, что Ефимов оставил в книге, есть чистая правда, а если и наличествует ложь, то уж только про мертвецов.
Я, как “ревизорщики”, читавшие по кругу письмо Хлестакова, выкрикиваю: нет уж, вы про всех читайте и до конца. А то получается, что кого-то Ефимов решил пожалеть или испугался обидеть, а о прочих можно вовсе не заботиться и публиковать всё. Уж коль Ефимов решился пойти против желания довлатовской семьи и опубликовать эту переписку, так надо было идти до конца. Это не того сорта книга, где позволяется "и рыбку съесть и на хуй сесть".
А если что просится на сокращение, так это бесконечные из письма в письмо обсуждения технических мелочей издания каждой книги Довлатова. Для колорита можно было оставить в двух-трёх письмах, а так чуть ли не половина книги – редакторско-корректорский журнал. Именно это могло стать достоянием полного собрания сочинений, в котором, как даёт понять Ефимов, когда-то будет опубликовано всё, без купюр, а пока он взялся поработать цензором с благими намерениями, у которых место назначения общеизвестно.
Что касается главного героя переписки, то Довлатовская фигура в своей противоречивости весьма динамична, многоцветна и вызывает огромную симпатию, несмотря на что бы там ни было. Это не говоря о его сверкающем остроумии.
В то же время у меня возникает сомнение в принадлежности немалых кусков этого остроумия. Довлатов часто пересказывает чужие остроты, что он делает, разумеется, артистически, но ведь они-то не его. Сколько там, например, животонадрывательных шуток Вагрича Бахчаняна, которые незаметно становятся в общем тексте шутками якобы самого Довлатова.
Я пытаюсь вычислить, сколько в Соло на ундервуде и в других его книгах собственно Довлатовского, а сколько чужого, услышанного им и взятого на заметку, а потом невзначай воспроизведённого и затем воспринимаемого читателем как "довлатовское"?
Эффект этот напоминает успех умелого рассказчика, который пользуется в компании заслуженным смехом над не им придуманными анекдотами. Этим я вовсе не пытаюсь принизить остроумие самого Довлатова, которое безоговорочно и обжалованию не подлежит. Просто это иллюстрирует его тягу к заимствованию и присваиванию.
Покаянное письмо Довлатова в конце переписки, с моей точки зрения, полностью реабилитирует его, поскольку способность себя такого признать и выказать нараспашку – большая и грустная сила. Реабилитирует, конечно, как литературного героя, а не как смертного, который оставался под боком и оттого не становился более приемлем для соседа.
Проблема конфликта героев данной переписки аналогична ситуации любовной, когда мужчина увлекается красавицей, с которой дивно совокупляться, но которая после удовлетворения похоти – отчётливо чужой человек, а часто даже и отталкивающий. И вот вместо того, чтобы эту красавицу продолжать пользовать время от времени богоданным способом, влюблённый решает на ней жениться. Что после этого происходит – предмет разбора судов по бракоразводным делам.
У Ефимова с Довлатовым произошло то же самое: красавец по литературному отделу, обаяшка, с которым так хорошо поболтать. Но чуть дело доходит до дружбы, то любовь кончается, а дружба не получается. Структура характера алкоголика клинически описана и изучена достаточно хорошо, чтобы заранее предсказать: неалкоголик и алкоголик несовместимы для тесного общения. Это отразилось в замечании Ефимова о зависти Довлатова к его стабильности и в признании наличия зависти самим Довлатовым. И это лишь одно звено в длинной, тяжёлой и ржавой цепи. Я не пытаюсь строить из себя мудреца, а лишь подтверждаю комментарием тривиальность сей ситуации.