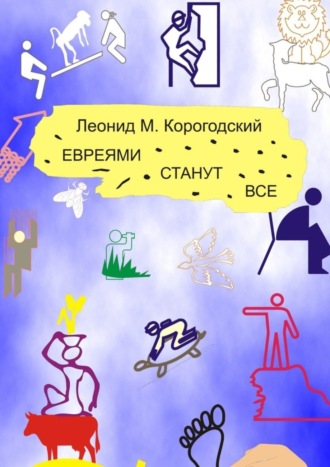
Полная версия
ЕВРЕЯМИ СТАНУТ ВСЕ
а не испанец Карл V Габсбург
получил бы долгожданную
императорскую корону,
а обе Америки и большая часть Европы
и по сей день говорили бы по-французски.
Были бы другие войны,
государства и страны.
Ренессанс назывался бы по-другому,
великие революции,
может, произошли бы в Англии и Германии,
а не во Франции и России.
Зато теперь туристы могут любоваться
китайской Стеной,
а не ломать головы над иероглифами
в обеих Америках и Австралии.
На работу в Институт Александра принимал
сам Аристотель
в увитом виноградом кабинете-беседке.
Поняв, что Александр – еврей,
Аристотель странно удивился,
долго его рассматривал и расспрашивал,
как и почему он тут оказался.
К своему стыду, именно в истории евреев
Александр был не силен.
Застряли еще в Древнем Египте,
который Аристотель как раз хорошо знал
по рассказам своего учителя Платона,
который еще до основания школы в Афинах
жил в Египте и учился вместе с евреями.
Основатель вспоминал,
какие свитки присылал ему
Александр Македонский
из захваченного Иерусалима.
Что Александр знал
про древние иудейские свитки?
Приходилось многозначительно кивать.
И тут к ним,
на правах древнего знакомого,
ввалился Ахиллес
с Черепахой под мышкой.
Постепенно тот самый злополучный парадокс,
не без участия врагов греков,
троянцев,
а позднее спартанцев и римлян,
перерос в зловещую сплетню,
о том, как прославленный герой,
на самом деле не может ступить и двух шагов,
даже черепаху догнать.
Приплеталась к этому
и злополучная Ахиллесова пята.
Начали ползти слухи
о хромоте и ранней смерти героя.
Не сильно искушенный в парадоксах Ахиллес
был совершенно растерян.
Дело даже не том,
что он с первого шага обгоняет черепаху,
а в том, как это вообще Всё получается?
Совершенно травмированный этим вопросом,
он ушел с военной службы,
пережил слухи о своей смерти,
подавался учеником к различным философам,
которые совершенно запутали его самого и Черепаху.
Верная Черепаха сопровождала его
во Всех философских скитаниях.
Понять, почему быстроногий Ахиллес
не может ее догнать
она тоже не могла,
но Всегда ему сочувствовала,
утешала и страшно радовалась,
когда после очередного
тысячного и миллионного эксперимента,
он с легкостью опережал ее.
Поняв, что философия им не поможет,
они затаились и терпеливо ждали
неизбежного ее упадка
и расцвета Науки.
Продержавшись Всё Средневековье
они добрались до Института,
узнав, что он основан самим Аристотелем.
Сначала их пугало
философское прошлое Основателя,
но потом, решив,
что в одну реку нельзя войти дважды,
они вступили в его зеленый кабинет
в надежде разрешить, наконец,
их головную боль.
Эта история совершенно возмутила Аристотеля.
Ему самому поднадоели уже и Зенон, и Сократ
с их парадоксами.
Сам он революциями не занимался,
мечтал о просвещенной монархии,
пострадал от демократии,
самой первой,
афинской.
Сократа же за его парадоксы казнили.
И понимали, кого казнят, но казнили,
по закону,
демократично,
с голосованием,
почти с референдумом:
более пятисот человек высказалось.
Мудрый и наивный Сократ,
первый античный просветитель.
Он верил, что слепые прозреют
и глухие услышат,
а прозревшие будут безумно счастливы
увидеть этот прекрасный мир.
Много лет спустя,
Александр с Женой побывали в Афинах
на четырехугольной площади рынка,
на том, что от нее осталось.
Здесь и проповедовал Сократ.
Уцелел и тогдашний туалет
на одной из сторон площади.
Это была выдолбленная в камне траншея,
по которой протекала вода.
Никаких перегородок не было,
Всё по-демократичному прозрачно и открыто,
не надо даже сдерживаться,
боясь упустить мысль Сократа —
садись и продолжай впитывать мудрость.
Человек же находится не там,
где он сидит,
а там, где его мысли.
Александр посидел на обломке колонны,
покормил яблоком философствующую рядом черепаху.
После смерти Сократа
долго еще никто не хотел
заходить в клетку со львами.
Не захотел и Аристотель.
Он ревновал к Зенону,
который, хоть и двумя веками ранее,
не побоялся схватиться с тираном
и героически погибнуть.
Зенон, даже для Аристотеля,
был классиком.
Сам Аристотель с тиранами
предпочитал мириться,
но революционную смелость,
в глубине души, уважал
и решил, наконец, раз и навсегда разобраться в вопросе.
Какое может быть Возрождение,
если даже Ахиллес
не догонит
ползущую черепаху?
Понятно, что догонит,
но сама мысль, что может не догнать…
И тому есть расчеты!
Нужна была новая теория.
Аристотель откашлялся
и начал вступление
о герое древнего мира, Зеноне,
его борьбе с тиранами
и незабываемом, классическом уже, парадоксе.
Этот Зенон, конечно, герой и древний,
но своими парадоксами
тормозит наше поступательное
теоретическое движение вперед.
Давно пора
окончательно развенчать
парадокс Зенона
и вынести его из интеллектуального мавзолея.
И Аристотель предложил Александру исследовать,
да, да,
парадокс Зенона
и он надеялся,
он был уверен,
что уважаемый еврей,
с этим справится.
Застывший Александр вдруг понял,
что сейчас он должен,
если не выразить обязательный восторг,
то хотя бы улыбнуться.
Была создана лаборатория имени Зенона,
в которую и попал
только что поступивший в Институт Александр.
Теперь ему предстояло разбираться,
почему пострадавший от древней тирании Зенон
считал, что чемпион по бегу Ахиллес
не сможет обогнать свою собственную Черепаху.
Не может же быть,
что Зенон, действительно, так считал.
Он же был совсем не дурак
и черепах каждый день видел.
Может поиздеваться решил
или что-то другое доказать?
А может, он все-таки был прав,
по какому-то бесконечно большому счету?
С такими тяжелыми думами
Александр брел в библиотеку,
перебирая варианты.
На стометровке, конечно, не догонит.
А если устроить марафон,
длиною в жизнь?
Тогда греки жили, в среднем, тридцать лет,
а черепахи – триста.
Вот и обнаружила бы Черепаха на своем пути
бездыханное тело Ахиллеса,
даже оплакала бы его,
посидела бы несколько дней в трауре,
и, не торопясь, потопала бы дальше,
к победе.
Нет, этот парадокс,
не из нашего земного мира,
в котором бесконечно и скучно
тянутся две параллельные прямые,
которые никогда, вообще никогда,
не пересекутся.
А если и пересекутся,
то мы этого никак проверить не сможем,
потому, что пересекутся они, может быть, в бесконечности
и нам до нее на этой Земле не добраться.
Чем больше он занимался,
тем больше понимал,
что не такой уж и парадокс
был описан Зеноном.
Из него следует, что движения вообще нет,
а, значит, нет ни времени, ни пространства.
Зенон это угадал,
но никак не мог доказать,
кроме как таким дурацким примером.
В природе нет
ни прямой линии, ни окружности, ни даже точки.
Математика к природе
не имеет никакого отношения.
Стоп, стоп, стоп.
Диссертацию ему писать и защищать
в этом бренном мире,
где нет никаких бесконечностей,
а эту кляксу на бумаге
принято считать идеальной точкой.
И он попытался представить
какого-нибудь галактического Ахиллеса
и такую же космическую Черепаху,
которые соревнуются,
двигаясь по изгибам поверхности в пространстве,
где сам путь решает Всё.
Ахиллес огибает по своему пути половину галактики,
где его уже давно ждет
сделавшая два шажка, но по своему пути, Черепаха.
Или в микромире какой-то, то ли квант, то ли частица
по имени Ахиллес
куда-то несется, теряя массу и почти исчезая,
а неторопливая грузная Черепаха
уже давно ищет почти исчезнувшего Ахиллеса на финише.
Сложно быть Зеноном в нашем прямолинейном мире.
Первый же доклад,
который Александр услышал в Институте,
обнадежил его ссылкой на парадокс Зенона.
Кремень занимался доказательством того,
что жизни на Земле нет,
даже растительной.
Выглядело это вполне логично.
Какова доля Земли во Всей массе Космоса?
Ноль целых, ноль десятых,
тысячных и миллиардных.
Вероятность, возникновения Земли
пренебрежимо мала,
в сущности, равна нулю.
Этой Земли-песчинки практически нет,
ее невозможно даже разглядеть.
Ноль целых и еще длиннющий ряд нулей после запятой.
И как на такой песчинке
вообще может что-то появиться?
Это совершенно нереальный Переход,
он невероятен, невозможен.
То, что мы видим, слышим и едим —
это иллюзия,
странный мираж,
бессмыслица,
каменный сон.
Существует же парадокс Зенона о том,
что никто и никогда не догонит никакую черепаху.
И неважно, что он ее догонит.
Существует строгое логическое доказательство.
Кремень был прямым потомком
тех самых заполняющих Галактику
аристократических Камней.
И потомки тех самых древних Камней
не оставили попыток
во что бы то ни стало,
любой ценой,
хотя бы сейчас
доказать свою правоту.
Александр от этой идеи был в полном восторге:
каменный парадокс
давал надежду защитить диссертацию
на парадоксе Зенона.
Попробуй доказать,
что ничего нет
и диссертацию защитить,
и академиком стать,
и финансирование получать.
А это направление Кто-то поддерживал,
загадочно и непонятно.
Но Наука и должна быть загадочной и непонятной.
Это вам не Стену или Башню из камней сложить.
Это Наука!
Сам Кремень излучал принципиальность и
почти Всегда голосовал против.
Он был чужой в этой
податливой,
мягкой,
желейной,
органической цивилизации.
Но нельзя сказать, что Кремень
был совершенно чужд компромиссам.
Когда заходила речь
о размножении, эротике, даже сексе,
Кремень, совершенно не смущаясь,
с великолепным спокойствием
вел Всех в музей камней
и с азартом демонстрировал
самые прочные и драгоценные
алмазные и бриллиантовые
семьи электронов и протонов,
и их легкомысленно-неустойчивые радиоактивные связи.
Кстати, и личная жизнь
у него складывалась превосходно.
Он увлекался, конечно же,
скульптурой
и мог воплотить
в мраморе, нефрите, хрустале, малахите
любую свою мечту и фантазию.
У него даже был молодой,
довольно успешный ученик.
Он доказал,
что весь мир состоит
из одного электрона,
который движется
со сверхсветовой скоростью по Вселенной
и точкой, носящейся по объемному, многомерному экрану,
изображает нашу жизнь.
А иначе, как объяснить, что Все электроны
как близнецы,
похожи друг на друга.
Гора родила электрон,
но какой.
Его и звали Электрон,
и сам он был таким живчиком-электроном,
за мгновение оббегающим весь Институт.
Он метеоритом влетал в комнату,
пожимал руки
одновременно Всем сотрудникам,
разговаривая сразу со Всеми,
захлебываясь от своих
так медленно текущих слов,
брызжа глаголами и идеями,
желая заниматься Всем,
сделать Всё.
Глядя на него, казалось,
что, действительно,
ни для кого другого
места во Вселенной
уже не осталось.
Подозревали, что он вообще никогда не спал.
Как же может заснуть Электрон,
один образующий Вселенную?
С глубочайшим презрением относился ко Всем,
кто ограничивал себя скоростью света —
примитивные создания.
Маленький, худенький,
Электрон все время двигался, подпрыгивал и говорил,
Кремень неподвижно молчал.
При этом они прекрасно ладили
и понимали друг друга,
почти никогда не разговаривая,
переглядываясь и кивая.
Это вселяло надежду
на единство противоположностей,
а не только на их борьбу.
Стараясь вникнуть
в образ и мысли Зенона,
Александр забрел в университетский отдел древних рукописей
и натолкнулся на незаметную дверь,
выглядевшую, как стена.
Из проступающих греческих букв
на еле заметной старинной табличке
Александр полупрочел-полуугадал
свое имя.
Неужели что-то
из Александра Македонского?
Отодрав старую дверь,
он будто вошел
в сгоревшую Александрийскую библиотеку,
в ее технический музей.
Там была перекочевавшая из Приседающего Дома
чудом воскресшая рукопись
и модели почти Всех дошедших до нас
машин и механизмов Герона Александрийского.
Тут же рядом некто Конфуций описал,
как мухи обнаружили рукопись,
которая активировала призрак Герона.
Александр разглядывал модели
и читал описания.
Можно было разжечь
на храмовом алтаре огонь
и возносить игрушечные молитвы богам,
залить в пересохшие сосуды воду и вино,
засыпать новый песок,
заменить истлевшие веревки
и снова смотреть
величественные греческие трагедии,
слушать предсказания оракулов
из храмов-рычагов
и свистящих чайников-птиц.
Автоматизированный храм,
к воротам которого
подходит жрец,
возжигает на алтаре священный жертвенный огонь
который, где-то за кулисами,
греет воду.
Та нагревается и расширяется,
переливается в другой сосуд,
пересыпается песок,
под тяжестью которого
веревки натягиваются на блоках,
медленно и торжественно,
с паровой органной музыкой,
открываются храмовые ворота.
Огонь слабеет и затухает,
воздух и вода охлаждаются
и возвращаются обратно,
ворота храма закрываются
до следующей службы.
И это означает,
что жертвы и молитвы приняты
и благополучная жизнь продолжается.
Если что-то заедало
и ворота не открывались,
то журили нетвердых в вере прихожан.
А после незадачливый храмовый механик получал взбучку за то,
что недосмазал, недопрочистил, недокрутил.
Очень уж сильно его, конечно, не наказывали —
высокой квалификации и деликатности
требовала эта профессия.
И эта идея Герона, судя по всему,
применялась.
Раскопан археологами такой автоматизированный храм.
И тут же сосуды
для превращения воды в вино,
автомат для продажи воды,
святой воды,
торговый автомат,
пожарный насос,
хитроумные фонтаны.
Мир мечты продолжался в автоматическом театре:
веревки на блоках, гирьки, грузы.
Шары падали на медные листы,
раздавался гром,
пар выходил из трубочек
и свистел на все лады.
Еще и в Средние века
над Героном ехидно посмеивались,
кивали на на так и не сбывшуюся
паровую машину,
на языческие трюки
с автоматизированными храмами
и превращающими воду в вино сосудами.
Призрак Герона
явно преследовал именно Александра,
являлся ему во сне и требовал,
чтобы Все его идеи были воплощены.
Александр не слыхал от старожил,
что Герон кому-то являлся раньше.
Почему он избрал именно его?
Не из-за его же знаменитого
греческого имени.
Две тысячи лет
не с кем было ему разговаривать?
Пришлось для Герона соорудить
чайник с горелкой на подставке с осью.
Чайник кипел, вращался,
Герон успокаивался.
Из чайника с посвистом вылетал Паровой Джин,
толкал его по кругу
и выполнял просьбы Герона —
они были друзьями.
Вода в чайнике кончалась,
уставший Джин отдыхал,
оправдываясь,
что все равно вечный двигатель невозможен.
В доказательство листал
современный учебник по физике.
В ответ, мстительно ухмыляясь,
Герон добавлял,
что невозможно и бессмертие
этих наглых белковых тел.
Эти биологические существа,
болтливые организмы,
которые считают,
что не может быть вечного двигателя,
мечтают о бессмертии.
И не только мечтают!
Целые лаборатории и институты создают.
При этом указывал на слово «Всегда»
на фасаде Института.
– Но есть же морские ежи,
живущие по сто лет.
Известна черепаха,
которая могла жить вечно
и лишь случайно умерла.
– Ты экстраполируй, экстраполируй, больше!
Герон нервничал,
добавлял воды и огня в горелке,
Паровой Джинн горячился
и дискуссия продолжалась.
Если от идеи вечного двигателя
ученые оказались
даже с каким-то облегчением и злорадством,
бойкотом этой темы,
то отрицание идеи бессмертия и по сей день
дается очень тяжело и болезненно.
Попробуйте заставить
уважающего себя маститого ученого
не разбираться, не испытывать,
а только посмотреть
какой-нибудь совершенно невинный, простенький,
даже работающий вечный двигатель.
Пусть даже не вечный, но пока что работающий.
Он даже обидится,
и руку подавать вам перестанет.
А скажите ему,
что любой белок смертен
и нечего даже пытаться
его жизнь до бесконечности продлить,
он уже с вами крупно поссорится.
А добавьте, что эту никчемную жизнь нечего и продлевать —
тут уж он и разговаривать с вами перестанет,
и всякие отношения прекратит.
Всё это и произошло с Героном,
которого подзуживал Паровой Джинн,
и при этом, на свою голову,
присутствовал Александр.
Профессор Бессмертный
совершенно безжалостно отбрасывал и пресекал
всякие лженаучные попытки постижения
вечной жизни двигателя.
«Не научно» – это был приговор.
При этом ящик его головного мозга захлопывался,
тема считалась исчерпанной,
дальнейшие разговоры он прерывал,
и далее избегал встреч с вами.
Непритворно и непрерывно
он был встревожен проникновением
лженауки
в незамутненный научный кристалл.
Герона и Джинна мало интересовало
мнение и настроение Профессора,
но Александр планировал защищать диссертацию и,
чтобы сгладить неприятное впечатление,
решил рассказать
об одном очень удачном опыте
с философским камнем,
начав, как всегда,
со своего фирменного дурацкого вопроса.
– Профессор, Вы бы приняли в аспирантуру
человека из народа,
который предложил бы получать
золото из мочи
на основании схожести цветов?
В семнадцатом веке
Бранд из Германии был тем самым авантюристом и дилетантом,
которого и близко нельзя подпускать к науке,
даже к лженауке, алхимии.
Начинал он простым солдатом,
так как денег, связей и образования
у него не было.
Объявил себя врачом.
Судя по тому,
что солдаты его не повесили,
голова у него работала
и каких-то знаний он нахватался.
Его душа алхимика жаждала
философского камня.
Поразмышляв, он понял,
что совершенное можно найти
только в самом совершенном
божьем творении – человеке.
Более того, неискушенный человек
каждый день выливает из себя
совершенно золотую,
переливающуюся на солнце жидкость.
Это и есть тот самый философский камень
в жидкой форме.
Лаборатория и оборудование
уже тогда стоили очень дорого.
Бранд занялся торговлей,
накопил денег на лабораторию.
По дешевке он покупал золотую жидкость в соседней казарме,
кипятил, выпаривал, смешивал, прокаливал, перегонял.
И у него получилось!
Он увидел золотистый воск на дне колбы.
И это золото, к тому же, ярко горело и светилось в темноте.
Светилось Всё,
к чему оно прикасалось.
Куда там золоту!
Это была сама первичная материя.
Завистники объяснили купцу,
уже ученому-дилетанту,
что это не золото,
не первичная материя,
даже не метал.
Это был фосфор, в переводе – светоносный.
Для купца он и стал философским камнем,
на вес золота,
дороже золота,
так как многие годы притягивал для него
золото, серебро и драгоценные камни.
Так Европа,
освещенная холодным зеленым светом фосфора,
выходила из Средневековья.
Впервые со времен Античности
был получен новый элемент.
Потом тайну изготовления
у этого неуча
купил великий ученый Лейбниц.
Профессор взбесился:
«Нашелся представитель народа!
Какого народа?»
Он объявил Александру,
что гениальный Бранд
ни в коем случае дилетантом не является,
так как профессионально изучил свой вопрос,
несмотря на отсутствие систематического образования.
И участие в этом самого Лейбница
неоспоримо этот профессионализм доказывает.
Как этот еврей
позволил себе глумиться
над гениальным открытием фосфора
и над самим Лейбницем.
Теперь этот потомок Авраама
с присвоенным именем Александр
приперся к нам в Институт,
чтобы учить нас,
самого Аристотеля!
Откуда взялся на наши головы
этот еврей?
Последние фразы Профессор
уже произнес про себя,
но Александр прекрасно их понял
и это заставило его стать осторожнее
в словах и выводах.
Кроме обиды,
он понял, как трудно, почти невозможно,
кому-то что-то доказать.
Ведь тысячи лет люди видели,
как подпрыгивает крышка
котла, горшка или кастрюли
от пара кипящей воды.
Наверняка были и гениальные кухарки,
которым надоедало без конца вытирать плиты
и они жаловались хозяину или мужу,
что, чем крышки подбрасывать,
лучше бы этот пар мельницу крутил
или телегу двигал.
Но кто слушал эту дуру.
Уже тогда Паровой Джинн
так поддавал огня,
что крышка взлетала и улетала
в дальний угол кухни.
Как мог, намекал.
Да что там сложный паровой двигатель.
После Герона
простой арбалет в разных местах еще раз пять заново изобретали.
Не по зубам многим народам и эпохам
он оказался.
Ну, в конце концов, можно и без арбалета прожить.
Но нет, какой-то неугомонный источник
заставляет снова и снова
открывать Америку, законы Ньютона, паровой двигатель и арбалет.
Представьте, как какой-нибудь
первобытный Галилей
выходит с товарищами из пещеры
и, вместо поиска пропитания,
с горящими глазами взбирается на дерево,
и с возбужденными криками
начинает бросать вниз
камни, бананы, орехи
и внимательно наблюдать,
как они падают.
Его с восторгом поддерживают
сидящие рядом обезьяны,
а нормальные сородичи
недоуменно смотрят снизу вверх.
Слезши с дерева,
он забивается в дальний угол пещеры
и что-то смешивает в костре.
Потом с разбегу прыгает в какую-нибудь лужу
и удивленно наблюдает,
как вода выходит из берегов
и Всегда правильными кругами расходятся волны.
Если ему повезет
сородичи вспомнят,
что он придумывал много полезного,
и будут снисходительно смотреть,
как он углубляется в теорию.
Хорошо, если до него вовремя дойдет,
что из обнаруженного им в костре оплавленного стекла
нужно срочно сделать
украшения для женщин
и игрушки для детей.
Две тысячи лет назад греки могли
разработать паровой двигатель,

