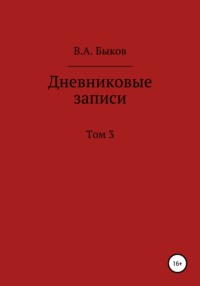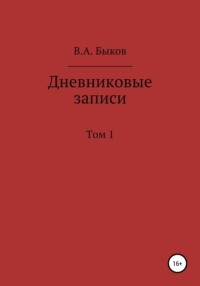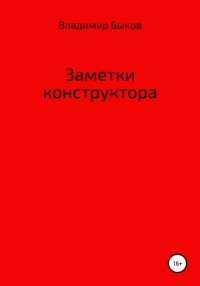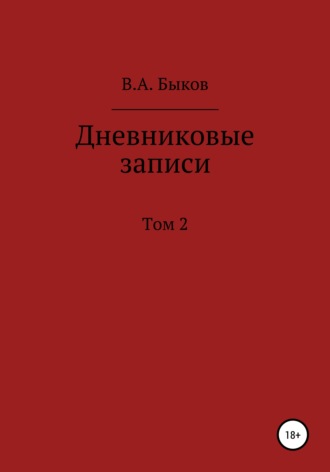 полная версия
полная версияДневниковые записи. Том 2
О философии. Вероятно, тут мы, пока, должны будем признать наличие у нас определенных расхождений, но только, подчеркиваю, в части не вообще философии, а той ее, что является плодом «чистых философов». В последней я усматриваю только ту пользу, что связана, как я где-то уже отмечал, с «косвенным воздействием на нас отдельных ее авторов, их талантливостью и эрудицией». Если ты это мое дополнение принимаешь, то мы и здесь станем с тобой полными единомышленниками, поскольку в отношении «хорошей Философии» я тобой приведенное воспринимаю без каких либо (других) оговорок.
О «слове». Принимается, я так тебя практически и понял, а свои комментарии сделал только с целью вполне однозначного толкования твоей исходной по сему делу формулировки.
О моих ошибках. Спасибо за дифирамб по поводу авторской пунктуации, но знаю, что у меня бывают отдельные опечатки и сверх ее. Их я обнаруживаю, и весьма часто, при обращении к свом архивным записям».
05.08
«Здравствуйте, Владимир Александрович!
На днях мне в руки попала статья доктора филологических наук, профессора УрГУ Веры Васильевны Химич (будет опубликована в октябре-ноябре в нашем кафедральном сборнике «Русская классика: динамика художественных систем»). На мой взгляд, это образец литературоведческого анализа текста, прежде всего художественного стиля.
Посылаю Вам эту статью».
07.08
«Уважаемый Владимир Александрович! Благодарю за лестный отзыв о последнем моем письме. Мне приятно, что, комментируя мои послания, Вы обращаете внимание также и на их форматирование: всегда считала это одной из значимых составляющих культуры письма и досадовала на тех своих соучеников и коллег, кто к набору текстов относился с небрежением.
По поводу Вашего анализа моего предыдущего сообщения хотелось бы отметить следующее. Вполне согласна с Вами в том, что в контексте рассуждений Шифаревича «комфорт» действительно вернее всего трактовать как «роскошь»: именно данное понятие позволяет акцентировать не только социально-экономический, но и важный для автора нравственный («имеет место потеря традиционных ценностей, стремление к максимальному комфорту, то есть к «жизни для себя») смысл жизнеповедения европейцев, противопоставляемого ученым России с ее якобы прочной духовной основой («русская цивилизация может предложить человечеству древнюю культуру, идеал которой не двигать куда-то мир, а сосуществовать с ним, не в беге времени, а в идее вечности»). Вывод Шафаревича, как Вы отмечаете, действительно алогичен, но, по-моему, его вряд ли можно считать неожиданным (может быть только, неожиданно было для Вас услышать гимн христианской России из уст ученого): если разум подсказывает человеку, что надвигается «конец западной цивилизации», то хотя бы из чувства самосохранения, физической невозможности принять мысль о всеобщем «апокалипсисе» он будет искать спасения, каким бы невероятным оно ни казалось. И если корень зла, по его мнению, в отсутствии у европейцев надежных ценностных ориентиров («Западная цивилизация не имеет, собственно говоря, никакой другой духовной основы, кроме силы и стремления к власти, причем в гораздо более широком диапазоне, чем какая-либо ранее существовавшая цивилизация, и не только в отношении к народу, но ко всей природе»), то и спасения он, естественно, ищет в духовности, стремлению к власти и упоению роскошью противопоставляет «идею вечности». И как тут, в унисон со многими и многими философами и публицистами 19, да и 20 века, ни возникнет мысль о России – опоре мировой цивилизации в наступающем хаосе! Думается все же, что эта «идея вечности», если таковая и сохранилась в менталитете русских (последнее весьма сомнительно), не спасет ни нас самих, ни тем более остальной мир. Пресловутый европейский прагматизм, на который русские привыкли смотреть свысока, пожалуй, гораздо более жизнеспособен, чем присущая нам (по крайней мере отчасти) «мечтательная безалаберность».
О философии. В части общих суждений о философии как таковой мы с Вами, кажется, сходимся. Расхождения, очевидно, коснутся конкретных персоналий. По-видимому, вопрос о том, кого из них отнести к графоманам и пустозвонам, а чью концепцию признать расширяющей наше представление о бытии, мы решаем не всегда одинаково. Но так даже интереснее.
Жду от Вас новых писем».
10.08
Маша Скобелева прислала мне литературоведческую статью Химич о творчестве Чехова в «эпоху, когда начались поиски способов расширения художественной впечатлительности», появилась «потребность в более утонченных способах выражения чувств и переживаний личности», а читатель стал «всё более утрачивать способность сосредоточивать внимание на широких контурах стройного, законченного произведения». По мнению автора, все это настолько захватило Чехова, что он, под «влиянием преобладающего эстетического настроения», увлекся «страстной погоней за деталями, за тонкими психологическими полутонами, за тем непередаваемым и малоисследованным музыкальным элементом, который таится на дне всякого ощущения», и проявил «тяготение к непрямым, ассоциативным формам письма, как нельзя более, соответствовавших этой настроенности художественных исканий времени», особо, по отношению к его «маленьким, изящным новеллам, как будто нарочно, созданным для того, чтобы передавать микроскопические детали, мимолетные музыкальные оттенки чувств, которые так дороги современному искусству». И т. д., в том же стиле маловразумительного (и уж, точно, вовсе бесполезного) высокопарного сочинительства, в котором больше смакуются слова, а не смысл, и о котором я уже не раз высказывал ей свое негативное мнение.
Пришлось теперь об этом ей еще и написать.
«Маша! Статья Химич – ярчайшее подтверждение тому, о чем я тебе уже говорил, о чем сказано на стр. 160 моих «Заметок». Для адресации к Чехову мне достаточно было бы знать от сведущего человека, что рассказы «Скрипка Ротшильда» или та же «Дама с собачкой» просто достойны моего внимания, без каких-либо надуманных литературоведческих выкрутас Веры Васильевны и словоблудия Набокова о том, что последний (рассказ) «основан на системе волн, на оттенках того или иного настроения», и «если мир Горького состоит из молекул, то здесь, у Чехова, перед нами мир волн, а не частиц материи, что, кстати, гораздо ближе к современному научному представлению о строении вселенной».
Так что, Перефразируя твою концовку, предпосланную к данной статье, я бы сказал наоборот: «Это образец литературоведческого пустословия». Есть ли в нем полезность? – Есть косвенная, и о том у меня тоже есть в «Заметках» (см. стр. 97).
С глубочайшим уважением, и без обид. Это чисто мое мнение. В. Быков».
P.S. Кстати, Набоков тот, имя которого при последней нашей прогулке я не мог вспомнить, но очень старался, видимо, в предчувствии получения примерно того же, что от него, впечатления и от прочтения труда В. В. Химич».
10.08
«Здравствуйте, Владимир Александрович!
Я вовсе не удивлена и тем более не обижена Вашим отзывом о статье Химич: с Вашими взглядами на литературоведение я знакома и сказанное не было для меня неожиданностью. Неожиданным, напротив, было единодушие, к которому мы приходили в процессе предшествующей переписки. Но как не изменился Ваш взгляд на филологию, так не изменился и мой. Литературоведы, по моему мнению, вовсе не «люди, занимающиеся специфическим трудом», «работающие только на себя», удовлетворяя тем самым «собственное узкокастовое тщеславие» («Заметки конструктора», с. 160), но напротив часть прославляемой Вами «созидающей части человечества». Созидающей не материальную, но духовную культуру, что, с моей точки зрения, труд, во всяком случае, не менее почетный, нежели прямо практическая деятельность. Созидание культурного пространства, освоение духовного наследия нации – вот их задача.
Боюсь, в этом вопросе нам с Вами никак не прийти к согласию».
12.08
«Дорогая Маша! Ты молодец: я не удивлен твоим ответом, как и ты моим. Ничего неожиданного в нем нет, точно так, как, мне казалось бы, не должно было быть и для тебя по поводу нашего «единодушия, к которому мы приходили в процессе предшествующей переписки», поскольку оно также исходило из тебе известного моего «кредо».
Мы действительно можем не прийти к полному согласию, но спор, как я всегда считал, – «сражение не для победы, а только для установления той, пусть относительной, истины, что приводит нас к более оптимальному решению. И потому, в принципе, спор должен приносить удовлетворение как правому, так и неправому. Кстати, их часто и нет, а есть новое или видоизмененное решение – прямой результат спора». Главное в нем, для пущей его результативности, быть логичным и стараться понимать своего «противника» всегда в расширительном плане, повторяюсь, домысливания за него «в должном позитивном направлении, а не наоборот». А потому начну с разъяснений.
Прежде всего, для правильных выводов надо иметь в виду, что литературоведение это действительно специфический труд в сравнении, например, с трудом пекаря, в котором тоже может иметь место брак. Но брак от лености, неумения и т. д., а не от «сознания» и высочайших даже способностей, направленных именно на то, о чем у меня идет речь, а именно о делах людей (а не вообще литературоведов), «работающих только на себя» и удовлетворяющих «собственное узкокастовое тщеславие».
Процитировано тобой верно, но, к сожалению, не с теми акцентами и вне моего в «Заметках» контекста. У меня – исключения, частные случаи, связанные с бесполезной, бессмысленной работой определенной категории людей, прежде всего, естественно, из тех специфических областей знания, что позволяют им наиболее безболезненно и «продуктивно» такой работой заниматься.
Не совсем же корректные, принятые тобой, исходные основания привели тебя к таким же выводам – к отрицанию якобы (так у тебя звучит) мною, что созидающий «не материальную, но духовную культуру… труд (добавим, полезный)… не менее почетный, нежели прямо практическая деятельность» и что «созидание культурного пространства, освоение духовного наследия нации» является его прямой задачей. А ведь я только-только (см. мое письмо от 31.07) пропел тебе чуть не гимн «слову» и полностью согласился с тобой как раз в части значимости и важности чисто интеллектуального труда.
Неужели ты будешь после этого отрицать явную надуманность статьи Химич?
Я не «боюсь», и надеюсь прийти к более определенному знаменателю и по этой вполне частной (а вовсе не обобщенной, как сделала ты) «проблеме».
С уважением и, еще раз, с надеждой на обязательное сближение наших взглядов».
12.08
«Здравствуйте, Владимир Александрович!
Расстроенная нашим последним разговором, пока не могу собраться с мыслями, чтобы ответить на Ваши замечания так, как мне кажется необходимым. Отвечу так скоро, как смогу. По существу, в конспективном варианте мое мнение изложено уже в последнем моем письме. От своей позиции не отказываюсь, но постараюсь раскрыть ее более убедительно». С уважением. Маша.
13.08
«Маша! В порядке разрядки, в связи с последней твоей краткой информацией, посылаю тебе еще один материал на нейтральную тему – краткие очерки, которые я сейчас печатаю в журнале «Конверсия».
15.08
Был на приеме у своего основного врача Соболева с данными по УЗИ, которые были сделаны ранее по его направлению. Состоялся примерно таковой разговор.
– Вот Вы, помните, говорили об операции, а сейчас у меня всего 26 кубиков и нулевой остаток, причем после двухмесячного прекращения приема каких-либо лекарств, но соблюдения более или менее здорового, в моем представлении, образа жизни. Кстати, почему Вы прошлый раз сказали мне, что вас, главным образом, интересует величина остатка мочи, а не сам размер железы?
На что услышал от него неожиданный, против предшествующих с ним бесед, ответ:
– У меня есть больной, правда, чуть старше! вас, у которого железа объемом более 100 кубиков, но он вполне прилично себя чувствует. Вот поэтому и меня интересует, в первую очередь, остаток.
И далее произнес нечто на тему этого остатка, из которого я ничего не понял. И потому, что было вообще не понятно, и потому, что я при этом больше стал думать о логике его мышления, согласно которому при моих исходных 46 кубиках год назад он предлагал мне срочную операцию, а теперь проповедует допустимость для мужика, практически того же возраста, 100-кубиковой железы.
После такой «полезной» для меня информации я перевел разговор на общефилософскую тему о жизни и, кстати, о моей книжке и его от прочтения впечатлениях. Понял из ответов, что он ее прочитал и, как мне показалось, даже очень внимательно. А потому в целом встречей остался доволен.
В конце он опять по моей просьбе разрешил мне не пить всякие лекарства, отозвавшись при этом о них с некоторым пренебрежением, и предложил ограничиться народными средствами. Его осиновой корой и тыквенными семечками, хотя я ему перед этим упомянул, что они мне не нравятся, и я не вижу в них толку. Придется придумывать чего-нибудь самому, полагаясь на свою «технологию» и свою голову.
Потому побывал и у Рудина, о котором я однажды уже упоминал. И он, при той же информации с моей стороны (но только без ссылки на Соболева и на данные по УЗИ) согласился насчет коры и семечек, и порекомендовал мне более современное гомеопатическое средство – Афалу, соответствующую, кажется, моему настрою. Что я и сделал, но только опять с периодическими перерывами и в меньших, чем им предложено, дозах, чтобы зря себя все же не травить.
20.08
Приведенные мною месяц назад впечатления от второго издания книги Нисковских предназначались только для себя в порядке чисто личного отношения к им сочиненному. Но сейчас, под давлением новой ситуации на заводе, решил сделать их достоянием читателей газеты «Ритм». И поступить так, главным образом, как бы в поддержку современных предложений Генерального директора завода Назима Тофиковича Эфендиева, вполне созвучных с моими, о которых я упоминал в «Записях» от 01.06 сего года.
23.08
«Дорогой Матус! Мое последнее коротенькое письмо я отправил тебе 15.07. Думаю, ты его получил, но не ответил, видимо правильно поняв меня насчет летнего перерыва. Он закончился, лето практически прошло, правда, успев нас порадовать особенно в августе превосходной погодой. Я же соскучился, и решил послать тебе очередную весточку.
У нас все без изменений. Виталий из комы выбрался, как я и предсказывал тебе в одном из писем. Выбрался, конечно, относительно, ибо общее его состояние плоховатое. Я недавно прошел обследование, к моей удовлетворенности, с результатами прилично лучшими в сравнении со всеми предыдущими, и главное, в полном соответствии (пока!) с моими на сие дело взглядами.
Из последних известий. Для начала и в качестве послеотпускной затравки, посылаю один материал. Посылаю без комментариев, поскольку все из него ясно и без них. (Речь идет о моей статье в заводскую газету)
Бывай здоров. Всем твоим привет наш общий от меня и Гали».
29.08
«Петя, по случаю заканчивающегося лета (и, соответственно, устроенного для себя отпуска) посылаю тебе для зарядки кое-что из моих последних «Записей».
05.09
«Здравствуйте, Владимир Александрович!
Извините, что долго не отвечала на Ваше письмо: совершенно нет времени дочитать присланный Вами материал (готовлюсь к экзаменам в аспирантуру, на работе, как это всегда бывает с началом учебного года, сразу требуется много отчетов и планов на будущий год), а отвечать, не прочтя его до конца, не считала возможным.
Меня, естественно, заинтересовал Ваш очерк о моем папе. Отмечу, кстати, что мама – его вторая жена (на матери своей первой дочери Ирины он женат не был), а я четвертый его ребенок (есть еще от Т. Сатовской – Боря и Митя). Это, конечно, не меняет сути, но все-таки важно.
По поводу нашего спора о пользе гуманитарных наук вообще и литературоведения в частности. Я не знала, как продолжать его в режиме «цитата – ответ», поскольку многие из своих соображений я высказала при нашей последней встрече, Вы же их сразу опровергли. Развивать положения, с которыми оппонент заведомо не согласен? Повторять то, что уже было оспорено? Не уверена, что в этом вопросе мы придем к согласию, несмотря на отмеченное Вами сходство наших взглядов, очень для меня отрадное.
Главный же результат этой полемики, на мой взгляд, в том, что Вы побуждаете меня осмысленно подходить к своей работе. Наверное, в ином случае, то есть при механической, движимой «стадным» чувством, привычкой деятельности, любой с очевидностью полезный труд может стать рутиной, не приносящей пользы ни обществу, ни самому человеку. Четкое же осознание того, чего в конечном итоге хочет добиться человек, в чем он видит смысл и цель своей деятельности, может служить своего рода прививкой против «обывательства», сосредоточенности исключительно на бытовой стороне жизни и тех материальных благах, которые работа приносит, от рутины, убивающей всякое творчество.
Ваше взыскующее слово становится репликой в моем внутреннем диалоге. И наш с Вами августовский разговор в лесу – это только фрагмент моего непрекращающегося спора с самою собой, когда я возвращаюсь к вопросу: зачем я этим занимаюсь, действительно ли мне нравится научная и учебная работа или же я просто пошла по пути наименьшего сопротивления (пошла, куда взяли), – пытаясь найти на него наиболее точный и исчерпывающий ответ. И будучи, насколько мне кажется, честной перед самой собой, я при всех сомнениях отвечаю утвердительно: я действительно вижу смысл в той науке, которой решила заниматься.
В общем-то идти сегодня в вуз из каких-то других соображений довольно странно: техничка в ближайшем продуктовом магазине получает в пять раз больше, чем я теперь. Те же из моих однокашников, кто устраиваются на более-менее приличную работу, требующую не просто механических навыков, но и позволяющую раскрыть свои творческие способности и использовать приобретенные знания (СМИ, издательства, различные фирмы, где требуются сотрудники, умеющие общаться с людьми, и т. д.), получают, по моим меркам, суммы, вполне достаточные для достойной жизни. И едва ли здравомыслящий человек откажется от всех этих возможностей, если не видит никакого смысла в вузовской работе, помимо отпуска в 56 дней.
Я не надеюсь, что Вы одобрите мой выбор, но хочу убедить Вас в том, что он вполне осознанный.
С огромным уважением. Маша».
11.09
«Маша, здравствуй! Я получил твое письмо, и опять увидел из него достойного полемиста и здраво мыслящего молодого весьма самоуверенного человека. Тобой все схвачено и все, что нужно, фактически оговорено. Мне остается только со всем согласиться, принять все к сведению, и быть тобою вполне довольным, тем более, что я противник (и таковым всегда был) давать прямые советы молодым, особенно явно самостоятельным, людям. И, наконец, еще один момент, тут работающий на нас: аспирантура – это учебный все же процесс, а не окончательный еще выбор «судьбы». Так что у тебя еще есть время… Может, мы оба еще над собой посмеемся!
P. S. И раз уж ты затронула тему про отца, то для внесения уточнений в мой очерк о нем сообщи, пожалуйста, в каких отношениях он был со Скобелевой, как долго, и почему у нее его фамилия, если они не были, как ты говоришь, в браке».
11.09
«Здравствуйте, Владимир Александрович! Очень рада, что наша переписка возобновлена. И еще больше рада тому, что Вы со мной согласились, по крайней мере, признали за моей позицией право на существование. Честно говоря, я опасалась, что мое нежелание продолжать известную дискуссию будет расценено Вами как капитуляция.
По поводу уточнений в очерк о моем папе. Фамилия Скобелев – это фамилия моей бабушки, матери моего отца Марии Кирилловны. По отцу Лев Сергеевич был бы Трынкин, но Мария Кирилловна дала ему свою фамилию, насколько мне известно, из политических соображений. Не знаю, можно ли было таким образом скрыть, что он является сыном репрессированного, или это что-то вроде официального отречения, свидетельствующего о благонадежности остальных членов семьи «врага народа».
Жаль, что никто не напишет книги о моем отце: он поистине гений, универсальный мыслитель и огромной души человек. Мама слишком любит его, чтобы взяться за такой долгий и кропотливый труд, будет сильно переживать, вспоминая прошедшее, а я слишком мало знаю. Впечатления – это еще не факты. С большим уважением»..
15.09
«Маша, ты не совсем правильно поняла мое предыдущее «P.S.». Я спрашивал тебя относительно Скобелевой, что работала у нас в Прокатке, а ты мне сообщила о своей Бабушке и об истории с папиной фамилией, о чем не раз слышал от самого Льва, а также от твоей мамы.
В части воспоминаний об отце. Попробуй хотя бы записать основные наиболее интересные моменты со слов Мамы. Я так в свое время сделал, и записал со слов своей Мамы историю своих предков, поселившихся в середине 19-го века в Сибири, под Томском.
Ну, а насчет «гения» ты, думаю, хватанула. Гений – это что-то из области ломброзовского помешательства, некоей сверх исключительности. Твой же отец был вполне нормальным мужиком – умным, интересным, талантливым, но нормальным».
21.09
«Дорогой Марк, получил, наконец, твое долгожданное письмо в полном соответствии с Российскими нормами и нашими с тобой правилами: сначала беспокойством о долгой задержке с получением ответного письма, а затем столь же долгой задержке с собственным ответом, и, кажется, отнюдь не по вине только одной почты. По крайней мере, хорошо помню, что отмеченное тобой большое расхождение в датах штемпеля почты и моей собственной в предыдущем письме было вызвано тем, что я последнее протаскал дней пять в своем кармане, или потому, что на почте было много народу, или просто по элементарной забывчивости.
Ну, а теперь о твоем.
Все твои замечания и уточнения в части Цалюка и «неизвестного» тебе Полякова приняты мной к сведению. Могу только добавить к ним, что дневниковую писанину я послал в порядке лишь развлечения, без расчета на твою реакцию.
А вот, ожидаемую мной, реакцию на наши «разногласия» с Нисковских (которая, как всегда, вопреки далее следуемому и наперед остроумно акцентированному, может «послужить предметом для моей критики») я не понял. Как и не понял, почему для «рассуждений о ходе истории, реформах, реорганизациях, революциях…», нужно чуть ли не пожертвовать собой. Стать «молодым, все бросить» и, надо понимать, приступить к делу с «неких глубочайших научных позиций, всесторонних исследований» и т. д.? Какая-то, не раз уже оговоренная мной (с непременным при этом удовольствием), твоя, может просто для моего завода, увлеченность желанием усложнить то, в чем нет никакой необходимости!? Разве не очевидно, что для ответа на твои вопросы достаточно здравого смысла и знания этой истории, без всякой на то глубокой науки, и разве, больше, ответ на них не содержится в самих твоих вопросах? То же касается и спора с Нисковских. Не вижу здесь ничего, требующего «научных» изысканий: все в пределах нашего опыта и знаний.
Упомянутое «Юбилейное издание» вышло, но без твоей фамилии по причине сугубо формально-организационной. Кем-то из главных затейщиков этого мероприятия было принято решение (с определенной даты), кандидатуры всех дополнительно претендующих на включение в него (а таковых оказалось очень много) не рассматривать, без какого либо исключения, так сказать, не взирая на любые звания и заслуги.
Приношу извинения, за невольно мною доставленные тебе хлопоты и возможные ожидания. С Чертковым, естественно, я многократно связывался. Звонил ему и вчера. Он, между прочим, сказал (если что-либо не перепутал), что где-то месяц или два назад об этом тебя информировал, и будто бы даже по твоему телефонному звонку.
Твоим решением продолжать работать – удивлен до удивления. Прислал бы хоть для полноты удивления и моего счастья текст, или тезисы, своей первой вступительной лекции.
И, наконец, о главном.
Я послал тебе 04.09 по электронной почте следующее сообщение:
«Марк, Лена Шляпина схоронили первого сентября. Мои тебе самые глубокие соболезнования. Марина в трансе, и мне о его смерти сообщила только на другой день после похорон. Все доброе о Лене не только в моей памяти, но и в моих записях, часть из которых тебе высылалась».
Вероятно, оно до тебя не дошло в связи с упомянутой поломкой вашего компьютера.
Плох и Белых. Тем более плох, что недавно у него умерла жена. Такие вот печальные дела.
Бывай здоров. Всем твоим привет и добрые пожелания».
27.09
«Матус, привет тебе большой и моя удовлетворенность тем, что у вас, как я понял, все стабилизировалось с Беллой.
В части ответа по поводу истории с Нисковских. Твои комментарии по ней все правильны, но главное в ней не то, что ты упомянул, а как, используя все известные факторы, наиболее эффективно двигаться к желаемой цели. Применяя разные структурные реорганизации, как предлагал вначале Виталий, или путем соответствующей новому времени самой работой в рамках существующей структуры, как предлагал я, и к чему (в письме к Белоненко) пришел и Виталий (это, кстати, подтверждается его репликой насчет ответственности Главного конструктора), а теперь еще и провозглашено новым руководством завода. Работа не «многовековая», но упорная и длительная. Этим последним и определяется мой ответ насчет перспективы у прокатчиков и, в том числе, РКЛ.