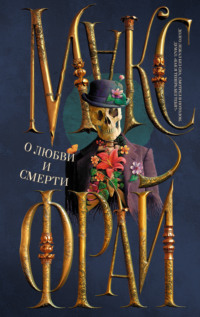Полная версия
Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Том 2
Наконец Тони Куртейн приходит в себя настолько, что совершенно по-человечески расстегивает теплую куртку, достает из внутреннего кармана бутылку темного рома, и рокот прибоя становится отчетливо одобрительным: вот это ты правильно делаешь, вовремя вспомнил, давай угощай. Тони Куртейн отпивает совсем небольшой глоток, щедро плещет ром в море и почти беззвучно, одними губами произносит свой любимый, самый короткий в мире тост: «Будь!» В этот момент на его плечо ложится рука и голос, на этот раз отчетливо человеческий, шепчет в самое ухо: «И мне оставь». Тони Куртейну даже оборачиваться не надо, кто хотя бы однажды ощутил прикосновение двойника, ни с чем другим его не перепутает. Поэтому он только спрашивает: «Это ты вообще как?»
* * *– Увидел тебя и сразу подумал: теперь все понятно, вычитал в своих книжках какое-нибудь древнее заклинание и вызвал меня, как демона из преисподней! – хохочет Тони, вгрызаясь в бутерброд с ветчиной с такой жадностью, словно год сидел на диете. Впрочем, он и правда сегодня не завтракал. Просто не нашел, чем.
– Не-а, не вызвал. Я не умею. Но кстати, как раз сегодня тебя вспоминал и понял, что очень соскучился, – с набитым ртом отвечает Тони Куртейн, который тоже не завтракал и не обедал, потому что ничего не хотел. Но теперь захотел как миленький. Великая вещь морской воздух. И конкуренция тоже великая вещь. – Мне, прикинь, приснилась какая-то вечеринка в твоей бадеге. Там еще то ли дракон запускал фейерверки, то ли из фейерверков родился дракон, теперь уже ничего толком не помню. Невовремя разбудили. Ужасно обидно. Хороший был сон.
– Вечеринка, кстати, была, но вроде бы без драконов, – неуверенно говорит Тони. – А фейерверки… Ай, слушай, так это, наверное, Нёхиси превращался. Он все время во что-нибудь этакое превращается, иногда как раз с фейерверками, мы просто давно привыкли, уже и внимания не обращает никто… Погоди, это, что ли, у нас бутерброды уже закончились?
– Закончились, – подтверждает Тони Куртейн. – Я же на тебя не рассчитывал. Мало сделал. Всего-то двенадцать штук.
– В следующий раз рассчитывай, – ухмыляется Тони. – В твоем положении следует быть оптимистом. Твердо знать, что как бы ни складывалась жизнь, а в любой момент не пойми откуда может вывалиться голодающий допельгангер и слопать все, что найдет.
Валя
Ты будешь дорогой, я – тем, кто так и не вышел из дома. Ты будешь сном, я проснусь и забуду тебя. Ты будешь светом, я закрою глаза. Ты будешь чудом, я – тем, с кем оно не случилось. Ты будешь словом, я – чужеземцем, который его не поймет.
Валя открывает глаза, утыкается лбом в мутное, холодное, мокрое снаружи, пыльное изнутри стекло, думает: дура, дуууууура, я дура, дура это теперь я; хватит, – думает Валя, – хватит, хватит, пожалуйста, хватит уже о нем, хватит корчить из себя поэтессу, сочинять красивые фразы, которые никогда не напишу и не отправлю, и слава богу, что не отправлю, потому что если все-таки да, Лева только плечами пожмет: «Совсем кукуха поехала». Какое, на хрен, «ты будешь светом», кто будет светом – Левочка, да? Вот этот му… да ну нет, на самом деле, никакое не «му», он нормальный, Левка отличный, просто, ну, не любит меня, так бывает – не любит, и все. Меня еще восемь, или сколько нас там сейчас на Земле миллиардов не любят, почему им можно меня не любить, а именно Леве вдруг с какого-то перепугу нельзя?
Валя всматривается в темноту. Давно не ездила в автобусах, всегда сама за рулем, а сегодня вдруг решила отвезти документы тетке автобусом, чтобы сослаться на расписание и не засиживаться в гостях. На самом деле, это была плохая идея, – думает Валя. – В последнее время у меня что-то много плохих идей.
Пока планировала, казалось, ехать автобусом будет очень приятно, дольше, чем на машине, зато напрягаться не надо, почти целый час можно ничего не делать, отдыхать и смотреть в окно. Она, собственно, смотрит, но что тут увидишь, только темнота, изредка фонари и фары встречных автомобилей, без особой нужды за город сейчас никто не поедет, вторник, вечер, дождь моросит, зима, снова зима, ну как же так получается, буквально только что было лето; ладно, осень тоже была, но какая-то слишком короткая, по ощущениям, не больше недели, любимое пальто всего три раза надеть успела, и все, конец, снова гребаная зима, закончен сезон непрактичных нарядов, ты один мне поддержка и опора, о старый, страшный, дешевый и бесформенный теплый пуховик. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние… а с тобой еще легче впасть.
Ты будешь летом, – думает Валя, снова закрыв глаза, – а я старым пуховиком, который убрали в кладовку, чтобы оставался там до зимы.
От этого унылого образа ей становится смешно и наконец-то легко, как будто вот прямо сейчас все наконец-то и правда закончилось, как кнопку нажали, раз – и нет никакой несчастной любви. Валя не особенно обольщается, потому что так уже много раз было – внезапное освобождение, облегчение, граничащее с эйфорией, но потом приходишь домой, а там стул, который вместе раскрашивали, три желтые ножки, четвертая черная с надписью «я дитя тьмы», там плед в зеленую клетку, в который вместе кутались, сидя а августе на балконе, там, собственно, сам балкон, где провели вместе столько прекрасных часов, и ящики с неувядающими мелкими хризантемами, которые принес, никуда не денешься, Левка и сам посадил, как будто собирался навсегда остаться, а на самом деле ничего он не собирался, подумаешь, ерунда какая, посадил хризантемы, хризантемы – не обязательство, а просто цветы.
Когда человек хочет с тобой остаться, он остается, – думает Валя. – А когда человек тебя любит, это – ну, обычно выражается в каких-то практических действиях. Это же только в любовных романах принято из каких-то винтажных соображений чувства скрывать, а жизнь честнее и проще: если человек чего-нибудь хочет, непременно постарается это получить. А если ни разу не попытался, а потом вообще постепенно исчез из поля твоего зрения, значит и не хотел. Не надо гадать, фантазировать, себя уговаривать, не надо придумывать ничего.
От этих печальных, в сущности, мыслей Вале становится еще легче. Совсем легко. Потому что если на самом деле ничего не было, значит и не потеряла я ничего. Ты будешь гипотезой, а я – показаниями приборов, которые ее опровергли. Привет.
Валя открывает глаза и видит, что пока она думала о приборах, гипотезах и любви, которой никогда не было, автобус успел въехать в город; ничего по-прежнему толком не видно, но здесь уже есть светофоры, из-за какого-то оптического искажения они кажутся огромными, как прожекторы, и сейчас за окном сияет ярко-зеленый свет.
В городе водители обычно соглашаются остановиться и высадить пассажиров, где тем удобней, если заранее попросить, но Вале не надо, ей домой от автовокзала ближе всего, можно сидеть спокойно, не опасаясь пропустить свою остановку. Однако повинуясь какому-то безотчетному порыву, она поднимается, медленно идет по проходу, одной рукой цепляясь за поручни, другой волоча за собой чемодан, глядит не под ноги, а в окно, за которым сияет зеленый свет далекого светофора, слишком яркий, слепит глаза, но смотреть на него все равно почему-то приятно, такой красивый, радостный, праздничный свет; Валя идет по пустому вагону и думает: как же странно, что в вагоне никого, кроме меня. Это я что, ехала почти целые сутки и не заметила, что одна? Да ну, нет, ерунда, были еще пассажиры, два молодых человека сидели в конце вагона, всю дорогу играли во что-то на странной, раньше таких не видела, шестиугольной доске, и песьеглавец с улыбчивым толстым младенцем, и пожилая женщина с прозрачным, как на фиранских картинах, лицом всю дорогу просидела с кальяном в курящем купе; наверное все просто вышли час назад в Шелой-Хассе, там же сейчас карнавал в честь прихода зимы, конечно, туда все едут, и только я, как скучная клуша, домой-домой, потому что завтра вечером на работу, так, чего доброго, вся жизнь пройдет без излишеств и наслаждений, – думает Младшая Сумеречная Начальница Во-Ин-Талли; впрочем, это чистой воды кокетство, не жалуется, а хвастается, красуется – за неимением аудитории, перед собой. На самом деле Во-Ин-Талли очень любит свою работу и соскучилась по дому в командировке, хочет поскорее вернуться в свой туманный сад, где пока она ездила, наверняка расцвели первые иринии. Ну или не расцвели.
Состав замедляет ход, ползет вдоль перрона, Во-Ин-Талли, слегка раздосадованная тем фактом, что некоторые процессы подчиняются не ее воле, а чьей-то еще, демонстративно возводит глаза к потолку – сколько можно тащиться? – и нетерпеливо подхватывает чемодан. Наконец поезд останавливается, проводник открывает дверь, Во-Ин-Талли, торжествующе улыбаясь, покидает вагон, вдыхает знакомый, неповторимый, любимый до боли в сердце горький запах цветущих зимних садов, мокрой земли, дыма ночных ритуальных костров, Валя растерянно смотрит вслед удаляющемуся от остановки пригородному автобусу: что я наделала, где я вышла, зачем?
Валя оглядывается по сторонам; ладно, где я, предположим, понятно, Новая Вильня, улица Парко, самая дальняя жопа мира, но родная, знакомая жопа, то есть ясно, как из нее выбираться, рядом конечная остановка семьдесят четвертого, можно без пересадок доехать до центра, даже такси не придется вызывать. Но господи боже, как я сюда попала? – думает Валя. – Что вышла гораздо раньше, чем собиралась, это еще ладно бы, но Новая Вильня – восточная окраина, а я возвращалась из Тракая, значит должна была въехать в город с противоположной стороны!
На самом деле Валя отлично помнит, как выходила из поезда на вокзале и что это был какой-то совсем незнакомый, но для той, которая выходила, знакомый вокзал. Валя помнит даже, кто именно из этого поезда выходил, вернее, какая она в тот момент была – счастливая, нетерпеливая, немного сердитая, привыкшая, господи боже, как сформулировать – командовать? повелевать? Скорее просто к тому, что обычно реальность движется в полном согласии с ее волей, а поезд с волей не согласовывался, слишком долго тормозил, поэтому на него и сердилась – не всерьез, понарошку, как на неласкового, не позволяющего себя погладить уличного кота. Сейчас вспоминать смешно и почему-то совсем не страшно, хотя, наверное, должно быть страшно, когда сходишь с ума.
Что это было вообще? – думает Валя. – Я же нормальная, никогда ничего такого, и вдруг – все, привет. Помню о себе то, чего не случилось, и никак не могло, но от этих ложных воспоминаний мне почему-то так весело и хорошо, как никогда в жизни не было. А если и было, то в раннем детстве, когда еще почти не умеешь думать, только существовать и чувствовать. Очень давно.
В этот момент Валя наконец замечает, что рядом с ней стоит чемодан. Большой, серебристый, тот самый. Тот самый, с которым я – не я, та, другая – ехала в поезде. Та, которая примерещилась. Совсем незнакомая, чужая, очень счастливая, властная, все-таки может быть немножечко я, – думает администратор языковых курсов Валя, пока ее руки, не дожидаясь соответствующей команды, открывают чемодан Младшей Сумеречной Начальницы Во-Ин-Талли. Чемодан наполовину пуст, а наполовину полон туманом, туман клубится над автобусной остановкой «улица Парко», стекает по склонам Павильняйских холмов, плывет над рекой, приближаясь к сердцу Старого города, весь город окутывает этот туман.
Это я, значит, вернулась из командировки, – с холодным спокойствием думает Валя, сидя на автобусной остановке. – И привезла нам туман.
6. Зеленый Каппа[2] в горах
Состав и пропорции:
1 часть ликера TatraTea;
1 часть сакэ;
чайная ложка сока имбиря;
лимонад Ramune со вкусом маття;
сок половины лайма;
сироп зеленого чая.
Охлажденные ингредиенты налить в высокий стакан, наполнить льдом и долить лимонадом. В половинку лайма без мякоти аккуратно налить чайный сироп. Положить в центр стакана.
Сабина
Сабина выходит из пятиэтажного дома на улице Ринктинес, она тут сейчас живет в квартире… ну, вероятно, близкого друга, раз уступил ей свое жилье. Или щедрого мецената, или поклонника, или старого должника; факт, что квартира пока свободна и до какой-нибудь даты моя, – объясняет себе Сабина в тех редких случаях, когда ей приходит охота что-нибудь себе объяснить. Прямо сейчас она понятия не имеет, как завладела этой квартирой, но когда – если – хозяин (хозяйка?) объявится, Сабина его, конечно же, сразу узнает. Не факт, что действительно вспомнит историю их отношений, но скажет то, что от нее ожидают, на том языке, на каком следует говорить. Короче, это точно не повод для беспокойства, пусть идет, как идет. Чтобы удержаться на поверхности моря, не обязательно помнить, как оно называется, где находится пляж, какой дорогой, как и с кем сюда добиралась, кто сторожит одежду, куда потом собиралась, достаточно просто плыть. Сабине нравится думать, что ее жизнь – это море. Она – умелый пловец.
Словно бы в подтверждение, в кармане куртки вздрагивает телефон, сообщение в мессенджере, по-польски, с латвийского номера, от абонента WV: «Если захочешь, в квартире можно остаться аж до пятого января, обнимаю». Сабина отвечает: «Отлично, спасибо огромное», – и улыбается: ну надо же, можно остаться! То есть, получается, раньше было нельзя? И потом, после пятого января снова станет нельзя? Забавно. Интересно, кто придет меня выселять? Впрочем, до пятого января еще далеко, целый месяц, мне столько, наверное, и не надо. Но все равно приятно, что в квартире можно остаться. Неохота прямо сейчас куда-то переезжать.
Когда Сабина о чем-то думает «неохота», – это означает, что время делать это пока не пришло. А когда придет, ей сразу захочется, да так сильно, что никто не удержит; с другой стороны, кому бы могло понадобиться зачем-то меня держать? – весело думает Сабина, перепрыгивая через оказавшуюся на ее пути скамейку, не потому, что давала обет всегда ходить по прямой, это все-таки вряд ли, а просто так, от избытка сил.
Интересно, – думает Сабина, – а я вообще давала какие-нибудь обеты? В обмен на заклинание «атрэ хэоста», бесконечно длящее жизнь? По уму, должна была, да. Это прикол, конечно: дать обет и его не помнить, но неукоснительно исполнять. А может, кстати, в этом и заключается мой обет – обо всем забывать?
Думать об этом Сабине не мучительно, а весело и интересно. Ей часто бывает весело. И интересно практически все.
Сабина идет через двор, вернее, через множество почти одинаковых дворов, застроенных старыми типовыми пятиэтажками и панельными девятиэтажками, чуть поновей. Так себе зрелище, но Сабину оно совершенно устраивает, она с удовольствием смотрит по сторонам – на грязноватые светлые стены, разноцветные автомобили, голые черные ветви деревьев, турники и песочницы, пустые по случаю буднего зимнего дня. Сабине все равно, где ходить и на что смотреть. С ее точки зрения, красивых и некрасивых домов не бывает, дома это – ну, просто дома. Они нужны, чтобы люди жили не на улице, а под крышей, в тепле, и в этом смысле все дома, кроме заброшенных и недостроенных, одинаково ценны – в них живут. Впрочем, в заброшенных жили раньше, а в недостроенных будут жить когда-то потом.
И ко всему остальному, что можно увидеть, когда идешь по городу – дворам, тротуарам, деревьям, троллейбусам, клумбам, витринам, автомобильным стоянкам, трансформаторным будкам, ангарам, фонарным столбам и мостам – у Сабины такое же отношение. Если есть, значит зачем-то нужны, спасибо, пусть будут. А как что при этом выглядит, особой разницы нет.
Не то чтобы Сабина была нечувствительна к красоте. Просто красоту она видит в движении света, пронизывающего весь мир. Людям обычно это зрелище недоступно, Сабина в курсе, поэтому вслух о невидимом свете не говорит. Иногда ей жаль, что не с кем его обсудить. Было бы здорово. Все равно что пойти на выставку с понимающим другом, чтобы шептаться: «Смотри какое!» – и хором огорченно вздыхать: «Ой нет, здесь надо было не так». Но тут ничего не поделаешь, Сабина одна.
По правде сказать, движение света редко бывает настолько красиво, что стоишь и смотришь, забыв, как дышать. Хотя, справедливости ради, в этом городе красивых фрагментов встречается больше, чем в других городах. Но чаще тайный невидимый свет не льется, а дергается, мелькает, мигает в таком утомительном ритме, что поневоле позавидуешь тем, кто не способен его воспринять.
Ну, это, положим, просто для красного словца сказано – «позавидуешь». На самом деле, конечно же, нет. Нечему тут завидовать. Не видеть несовершенство мира – не выход. Выход – все видеть и по возможности исправлять. Сабина умеет. Это ее любимое занятие – дирижировать невидимым светом, выравнивать его яркость и ритм. Сабина знает (она не помнит, откуда, то ли где-нибудь научилась, то ли изобрела сама) специальные жесты, почти незаметные посторонним, а если даже кто-то заметит, не придаст значения – подумаешь, какая-то тетка на улице резко взмахнула рукой. От этих жестов мучительно мельтешащий невидимый свет начинает плавно течь и ровно сиять. Иногда всего на минуту, а иногда надолго. Может быть, вообще навсегда. Но это не проверишь, конечно. Чтобы проверить, надо вечно жить в одном городе, а Сабине нравится часто переезжать.
Но проверять и не надо. Как получилось, так получилось, любое мнимальное изменение лучше, чем совсем ничего. А самой Сабине для радости нужен не результат, а сам процесс исправления, когда от одного движения руки устанавливается гармония и рождается ей одной очевидная красота. В такие моменты она не то чтобы вспоминает, скорее, всякий раз заново понимает, зачем вообще родилась.
Поэтому когда Сабину спрашивают о профессии – очень редко, она производит впечатление человека, к которому с вопросами лучше не приставать – так вот, если все-таки спрашивают, Сабина всегда говорит, что она художница. Кем еще считать себя человеку, которого, по большому счету, интересует только одно – красота. А что эту красоту никто не увидит глазами – дело десятое. Все равно как-то, да чувствуют. Люди чувствуют гораздо больше, чем способны осознавать.
Сабина выходит на улицу Кальварию и направляется к Зеленому мосту. Когда покидала дом, никаких особых планов у нее не было – пойти, куда понесут ноги, посмотреть, как по-разному в разных местах светится мир, внести исправления, где и когда захочется; в общем, все как всегда. Но вот прямо сейчас она ощущает желание погадать, сильное, простое и скорее приятное, как голод, который легко утолить. Гадание для Сабины тоже способ изменять течение света – в человеке, который к ней за этим придет. Особое удовольствие, не каждодневное, можно сказать, праздничное усилие. Человек – объект уникальный. Микроскопический, незначительный и одновременно – целый огромный мир. Такой парадокс.
Сегодня, – думает Сабина, – как раз подходящее настроение. Сегодня Канон Перемен мне отлично зайдет. Пойду в ту кофейню с камином… нет, лучше поеду. Хочу побыстрее! Остановка через дорогу, автобусы меня любят, нужный сразу придет.
Остановка украшена рождественской рекламой: мужчина везет на санках ребенка с кучей подарков в разноцветных пакетах. Сабина на миг застывает перед рекламным щитом – что это? Почему так счастливо колотится сердце? Почему мне кажется, будто эта бесхитростная картинка – про меня? И уже в автобусе вспоминает: снег, зима, санки, темнота, огни вдалеке. Когда я была маленькая, мама катала меня на санках. Или не мама? Неважно, кто-то хороший катал. У меня было отличное детство, какое счастье, что это так! Даже если я только что сочинила про снег и санки, все равно теперь оно – правда. В моем положении нет особой разницы, придумывать, или вспоминать.
Я
Я сижу на крыше дома, доставшегося мне когда-то в наследство от деда. Когда дед умер, мне едва исполнилось восемнадцать, только-только школу закончил; на самом деле, большое ему спасибо за то, что продержался так долго. Я – поздний ребенок, и мать тоже поздняя, даже по нынешним меркам, то есть дед уже совсем старым был, когда умер, девяносто два года, не кот чихнул.
Я почему говорю спасибо – да потому, что без деда, к которому можно было прийти в любое время и оставаться, сколько захочешь, и жаловаться, и хвастаться напропалую, врать с три короба, выдавать свои самые тайные тайны и просто молчать, – в общем, не уверен, что без дедовской беспечной усмешки и убежища в его доме я бы пережил превращение из ребенка во взрослого человека. До сих пор помню, какой это был лютый ужас – словно лучшую часть тебя положили под пресс и выжимают из нее жизнь, силу, смысл и все остальное, что имеет значение, причем даже не потому, что оно кому-то понадобилось, а просто чтобы у тебя всего этого больше не было. То есть все твое драгоценное даже не пожирают какие-то жуткие чудища, оно просто так утекает, потому что время пришло, и ты сам постепенно становишься жутким чудищем под названием «обычный взрослый человек». Все понимаешь, отчаянно, всем собой не соглашаешься превращаться, но превращаешься все равно.
Ну, правда, я тогда не до конца превратился. Слегка подпортился, но все-таки уцелел. Остался невыносимым упертым психом, способным желать исключительно невозможного, ежедневно грозить кулаком небесам и просить, а убедившись в полной бесполезности просьб, отчаянно требовать причитающихся мне по праву – то есть просто по факту рождения – невообразимых чудес, наполняющих смыслом всякую жизнь.
Короче, дед меня натурально спас – и своей долгой жизнью, и оставленным после смерти наследством. Где бы я сейчас был, если бы не этот дедовский дом. Да пожалуй, нигде бы уже и не был, – вот о чем я думаю, сидя на крыше дома, который служил мне убежищем в самые черные дни, то есть практически всю мою человеческую жизнь. И до сих пор остается, хотя быть сейчас моим домом – дело нелегкое. Но он как-то справляется. Специально ради меня научился скитаться с места на место по речным берегам, становиться незаметным для человеческих глаз, а тем, кто все-таки его разглядит, казаться нежилой, негодной развалиной, которую вот-вот снесут. Давным-давно уже не от чего, да и некому убегать, а убежище все равно осталось. И это, конечно, гораздо лучше, чем наоборот. Был бы дом, а что с ним делать – найдется. Например, безлунной пасмурной зимней ночью сидеть на крыше, до ушей закутавшись в одеяло. Впрочем, судя по тому, что у меня даже кончик носа не мерзнет, на улице сейчас довольно тепло.
Угревшись, я почти начинаю дремать и лениво думаю, что следовало бы вернуться в дом и там уже дрыхнуть, сколько душе угодно, потому что тело у меня этой ночью вполне человеческое, надо его беречь.
Думать о том, как я вот сейчас, буквально через минуту встану и куда-то пойду, легко и приятно, а вставать и идти – не очень. Я бы с удовольствием превратился в туман, вот уж кому ни вставать, ни куда-то ходить не надо, но какой из меня сейчас, к лешим, туман.
Ладно, ладно, – лениво думаю я, – встаю, вот уже встал практически, – и даже начинаю понемногу разматывать кокон из одеяла, но в этот момент из ночной темноты возникает перламутрово-белая маска с пустыми прорезями для глаз, за которыми плещется зыбкая, явственно влажная тьма.
Покажи мне такое лет двадцать назад, я бы с перепугу коньки отбросил, хоть и считался на общем фоне почти возмутительно храбрым, да и сам себя таковым наивно считал. Но с тех пор я много чего интересного навидался и успел убедиться, что в мире есть только одно по-настоящему страшное зло – полное отсутствие чудесных видений. Так что грех придираться к их оформлению. Лишь бы одолевали почаще, спасибо, беру.
К тому же конкретно это ужасающее лицо и тьма, которая у него вместо глаз, очень хорошо мне знакомы. Поэтому я улыбаюсь и говорю:
– Вот это здорово ты придумал – наконец объявиться. Где тебя черти носили целых четыре дня?
– Никто меня никуда не носил, – надменно отвечает Нёхиси. – Я сам носился, где душа пожелает. И сюда тоже сам принесся. Прикинь, всего в жизни добился сам! – и страшно довольный собой, хохочет всей своей белоснежной маской и всей тьмой, которая у него вместо глаз, и той тьмой, которая нас окружает, и безлунной ночью, и погасшими окнами соседних домов, и не выпавшим, хоть и обещанным всеми прогнозами снегом, и отсутствием уличных фонарей. Но тут же хмурится: – Погоди, а разве прошло аж четыре дня? Ты серьезно? Прости, я был совершенно уверен, что загулял всего-то на вечер. Вечно я во времени путаюсь. Хоть часы носи!
– Так ты уже загубил три штуки, – напоминаю я. – Последние почти полтора часа продержались, зато потом разлетелись даже не на куски, а практически на молекулы…
– На самом деле не полтора, а почти целых восемь часов! – возмущается Нёхиси.
От возмущения Нёхиси обычно становится антропоморфным; вероятно, человеческая форма наиболее хорошо приспособлена к возмущению, и испытывать его так удобней, и проявлять. Вот и теперь у Нёхиси сразу появляются руки с ногами, а на месте пустых темных прорезей сверкают пока рубиново-красные, но в остальном вполне человеческие глаза.