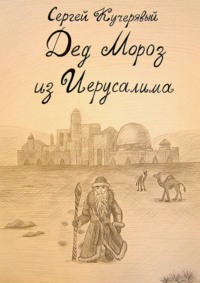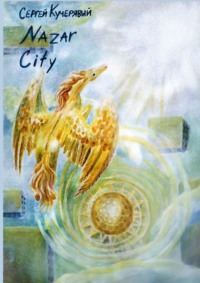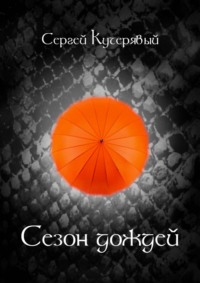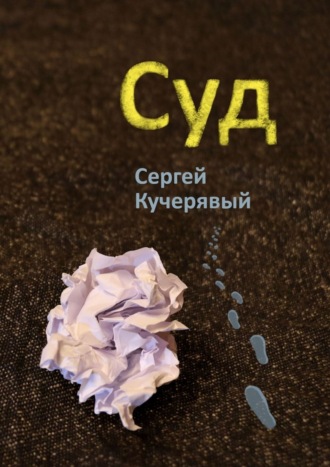
Полная версия
Суд

Суд
Сергей Кучерявый
© Сергей Кучерявый, 2024
ISBN 978-5-0051-9793-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение
Основным, а быть может, даже и самым главным несносным двигателем круговерти всех мыслей человека является некий внутренний разноплановый процесс сравнения, включающий в себя как абстрактные метафоричные горизонты, так и какие-то прямолинейные и вполне конкретно обозначенные понятия, которые все вместе емко и дружно продуктивно сосуществуют в одном кратком и пугающем слове – суд. Суд как изначальная форма анализа, он словно составной умысел корня каждодневных происков ментала, что неумолимо в себя впитывает все, что надо и не надо. Ведь каждый человек, пусть и в силу своей индивидуальной природы, он, так или иначе, постоянно пребывает где-то в своих размышлениях, человек безвылазно в каком-то смысле стоит обреченно своим сознанием прямо посреди перекрестка информационных потоков. А к нему, к этому самому перекрестку помимо внешнего мира, к нему, в свою очередь, также со всех сторон одновременно спешат его разрозненные мысли, какие-то идеи, факты, домыслы, фантазии, воспоминания, иллюзии… И все это тасуется взад-вперед, и все это совершенно натурально подвергается регулярному, а возможно, даже и не однократному процессу взвешивания, процессу суждения с вынесением по итогу приговора. Это так называемый праздный процесс взвешивания той или иной ситуации, некая оценка случившегося происшествия с кем-либо из окружающих, а быть может, даже и с незнакомыми лицами. А бывают и похлеще мгновения. Случается и так, что чаши Фемиды этих внутренних весов человека, они нередко колеблются и вовсе над абсолютно вымышленными героями из надуманной истории, что родилась где-то там, в плоскостях протяжной фантазии. В любом случае человек, совершенно неважно, кем он является: мужчиной ли, женщиной, какого он возраста, склада и социального положения, человек думает, размышляет, рассуждает и судит. Судит он регулярно, и судит он все – и старую, и новую, зримую или же ту вымышленную ситуацию. Судит он, конечно же, исходя из своего исключительно персонального свода внутренних правил, правил морального кодекса. А уж каков он есть этот самый кодекс? Сложен ли он, прост? Как он вообще устроен? Может, он очень строг и там все разложено по полочкам? Или же, напротив, сей кодекс вдоль и поперек изнутри весь хаотично исписан все какими-то сумбурными да противоречивыми мнениями? А может, там даже имеется и пара фраз, начертанных на манжетах? В том-то все и дело, что этот самый свод, его попросту невозможно узреть, а и тем более приобрести за так. Как ни крути, со всех сторон эта персональная мораль является неотъемлемой эмпирической составляющей бытия абсолютно каждого человека. И даже нарочно взятая за основу чья бы то ни было чужая модель этой самой морали, все равно в каждой отдельной личности она будет проигрываться как-то по-своему, как, впрочем, и процесс формирования исхода. Будь то гонка за ходом времени, слепое подражание кумирам или же воспаленное стремление к нравственным, а может, и к безнравственным идеалам – в любом случае процесс сплетения внутреннего и внешнего, он образует всегда свой персональный образ судебного заседания. Человек регулярно примеряет к себе чужие роли. Вопрос этот, конечно, открытый и риторический, спрашивается: зачем? Зачем человек ставит себя на место других, судит все с позиции своего понимания ситуации и вообще со своего понимания мира в целом, зачем? Влезет, значит, в чью-то образную шкуру и назначает оттуда лить свои правые линии, заодно величественно и бессмысленно цитируя при каждом удобном случае извечный тезис о том, что «правда у каждого своя». И что самое интересное, а может, даже и удивительное, но явно неприятное, так это то, что человек в своем подавляющем большинстве, он труслив. Его существо на протяжении всего пути повсеместно прибегает к малым и большим суждениям – это факт, но при всем при этом он также напрочь всегда забывает о своем личном страхе перед судом. Эта его боязнь показаться таковым, боязнь быть осужденным чьим-то сторонним мнением, страх попасть под расстрел взглядов, вследствие чего надолго погрязнуть в трясине вердиктов. Конечно, все это является глубоким острым аспектом жизни, но тем не менее это всего лишь рутина, поэтапная рутина познания мерно текущего пути. И на фоне всей той плеяды ярких вспышек жизни, там, несколько поодаль, где-то внутри человека, там таки и таится та самая настоящая глыба его неподдельного страха. Леденеющий страх оказаться причиной главного судебного заседания в своей жизни, он есть всегда. Того заседания, где есть и прокурор, и защита, и заседатели, есть свидетели, факты, дела, ритуалы и прочие подробности. Страх тот, он снаружи, может-то, и не особо виден, у каждого свой масочный гардероб, но все же изнутри этот глубинный тремор не денется никуда. А уж каким будет тот суд – реальный, основанный на уголовно-процессуальном кодексе, или же он будет общественно-моральный, а быть может, случится и вовсе тот высший суд, на толках которого зиждется столько эфемерных скрижалей? По сути, какой суд – это неважно, ведь они все схожи, они все практически идентичны и, более того, они равны меж собой. И вправду, вся их структура, их цели – все они до жути схожи, хоть и восприятие их всех по отдельности и разнится, тем не менее на анатомию, на сам механизм суда это никак не влияет. Да, одни считают, что более весомый и уж куда более страшный – это именно тот высший суд, на котором, кстати, до сих пор никто так и не присутствовал ни в качестве свидетеля, ни в роли народного заседателя, ну или же, на худой конец, хотя бы в качестве простого зрителя, не говоря уж, конечно же, об участи самого подсудимого. И самое удивительное, что зачастую именно к этой категории лиц и относятся все те люди, кто наделен какой-то особой то ли волей, то ли наглостью, а то ли глупой долей дерзости. Но при всем при этом, держа при себе эту незримую приклоненную боязнь перед Всевышним, они нередко откровенно демонстрируют миру какую-то неприязнь, брезгливость или даже какую-то смешливую надменность по отношению к отнюдь не самому лояльному земному суду со всеми его тяжелыми решениями. Также есть и те, кто испытывает неподдельное волнение от этого самого земного суда, при этом абсолютно не внимая и даже игнорируя, а порой и вовсе отодвигая все какие-то там заповедные правила на далеко второстепенный план. Наверное, это вновь можно отнести к персональной, ко внутренней морали с ее безграничным правом на самоопределение, да, можно, но это неглавный сегодня предмет нашего внимания. Речь пойдет об удивительной схожести, о предельной идентичности всех этих судебных заседаний, и тема эта касается не каких-либо конкретных форм, не каких-то внешних обстоятельств и причин, а сопряжена эта тема скорее с самой сутью, со структурой, с самим итогом всех тех рассматриваемых дел. И разница этой темы суда – она, конечно, очевидна. Она заключается в палитре, в широте, она заключается в том, что: где, как и насколько будет пролонгирован тот или иной вердикт суда, насколько будет озадачен сам отрезок жизненного пути подсудимого и каков будет уровень сложности того его шаткого дальнейшего существования. Именно суд подводит ту черту, и только суд устанавливает местоположение всех тех искомых рисок, что начертаны на линиях судьбы. Именно суд назначает все те новые места, все те новое точки отсчета, с которых всегда и начинается тот или иной новый этап жизни.
Глава первая
Многие, вероятно, попусту считают, что то самое чувство, когда ты вроде бы как, находясь в состоянии максимальной концентрации внимания, что там ты как бы направленно пребываешь в плоскости настоящего времени. И там же, в свою очередь, таким же абсурдным образом, там же ютится еще одно чувство, что также якобы непоколебимо соединено со ступором рассеянного восприятия всего вокруг происходящего и что оно, это самое ощущение, что оно как-то связано именно с моментом пика, с моментом оглашения приговора. Может быть, оно, конечно, все и так, но лично мне ощущалось это все как-то иначе. На протяжении всего процесса, если честно, я вообще находился в какой-то онемевшей прострации, лишь иногда каким-то самым малым краешком сознания я выныривал оттуда на поверхность, а иногда и вовсе я был целиком погружен в тот вроде бы как и свой, но до ужаса непроглядный туман сознания. Нет, в глазах у меня не мутнело, я видел все ясно и прозрачно, просто зачастую я стоял в каком-то недоумении: вроде бы как и все слышу, вижу, понимаю, наблюдаю за каждым движением, за каждым мельчайшим шажочком хода процесса, но и в то же самое время откровенно ничего не понимаю. Все было как будто не здесь и не со мной, а я лишь просто тут стою и вроде как со стороны за всем наблюдаю. Сознание мое было одновременно и напряжено до предела, и как-то безразлично расслаблено, отчего мой внутренний волнистый тремор иногда-таки переходил в лихорадку, скитаясь где-то между мной, залом суда и протяжными воспоминаниями, которые то и дело, подобно переполненной галерее, изобиловали обрывками, а то и целыми томами моих деяний. Помню прокурора, сухенький такой мужичок холодного и сдержанного толка, в зале присутствовало еще порядком народу. Сам прокурор был одет в самый что ни на есть обычный темно-серый костюм не первой свежести, а белая рубаха с редкими синими полосками, короткая стрижка, легкая проседь на висках – все это незатейливо придавало ему какую-то особую стать. Его крайне цепкие черты лица были сотканы на удивление только из ровнехоньких линий, словно бы они были высечены из камня, что придавало ему еще большую холодность и недоверие. Я всегда раньше думал, что обвинитель на судебном процессе должен быть всегда одет в свой рабочий, парадный или еще какой-нибудь там форменный мундир, но в моем случае все выглядело не так. Отчего с самого начала внутри меня начали пробуждаться некие доли сомнения, возникали вопросы и никуда не ведущие мои пустые размышления.
«Что это вообще за суд такой? Какая-то странная обстановка, какая-то совсем не похожая на реальность! А может, я сплю? Может, все это мне снится? Еще звон этот в голове откуда-то взялся и не прекратится никак…»
Я не раз пытался остановиться, не раз пытался все как-то усмирить эти свои безумные потоки, но внутри меня все так же несносно и тошнотворно продолжали метаться чуть ли не в панике мои загнанные в тупик мысли. Все сыпались и сыпались какими-то обрывками будто бы в пустоту все мои нескончаемые вопросы, на которые, разумеется, я и не ожидал ответа. Вопросы копились, слоились и тяжелели, но тем не менее, несмотря на все это безумие, я все продолжал наивно надеяться, что это какой-то нелепый розыгрыш, что все это неправда, что вот-вот представление закончится и я вновь окажусь в своем привычном окружении, в своем комфортном состоянии. Мое сознание все неистово продолжало цепляться за воздух, цепляться за любые проскальзывающие детали, что могли вызвать хоть какую-то каплю сомнения во всем происходящем. И да, в зыбком числе всех тех мелочей я все же крепко уцепился надеждой за один явный наружный факт несоответствия – это отсутствие форменной одежды на прокуроре. Еще меня смущало то, что этот зал не вмещал в себя зрителей. Я каждый раз изо всех сил пытался теребить свою увядшую логику, притягивая за уши любые домыслы. И что самое странное в этой всей череде каких-то откровенно сонных картинок – так это то, что я совершенно никак не мог вспомнить, как я очутился здесь, в этом зале судебных заседаний. Не то чтобы я, оборачиваясь назад, видел там все какие-то туманные следствия, коридоры, повороты, россыпь времени, допросы и снова череда бездействий, нет, я не видел ничего. Словно бы кто-то нагло взял и отрезал весь этот предшествующий путь, будто бы до этого пресловутого зала судебных заседаний у меня вообще ничего и не было, какая-то пустота, какая-то сплошная кома. А в голове тем временем периодами то и дело все елозили мысли:
«А может, это вообще не тот суд, о котором я думаю? Может, это действительно тот самый… высший суд? Может, я умер и именно сейчас надо мной будет вершиться тот иной – небесный суд? Кто знает, как там у них все устроено. Может, все точно так же, по аналогии с земным судом. Или же, скорее, напротив, в земном суде устроено все точно так же, как и в небесном. Опять же, кто там был, кто правду видел? Хотя и то, и это… все вполне может быть, – успокаиваясь, я вздыхал и не переставал размышлять, все помещая свои многотомные идеи в мгновения, в свинцовые секунды времени, – все очень даже может быть! Сейчас наверняка должен выйти… О нет-нет, он должен именно явиться, а не просто выйти, мудрый седобородый старец. И все начнется. Он чинно займет центральное место за столом, там, где сейчас никого нет, кроме одного того хлипкого образа человека, который, судя по всему, является секретарем. Судья… или как правильно-то, как поуважительней-то будет его называть? В общем, он посмотрит на меня и тут же безотлагательно примется подробно рассматривать историю моей жизни, пусть и недолгой. Да как же так-то? Неужели я и на самом деле умер? А от чего? Что случилось?»
Фантазии мои бесстыдно плодились, они все крутились, вертелись в каком-то действительно уж отчаянном бреду, и объем их весь тот неумолимо возрастал. И, сливаясь, таким образом, в единую оргию мутнеющих вопросов, я едва ли уже не сходил с ума, хотя как знать, быть может, на тот момент эта черта была мной уже давно пройдена. Признаться, в какой-то миг мне и вправду искренне хотелось, чтобы этот процесс был тем самым высшим судом, отчего-то он мне казался менее страшным, нежели обычный земной суд. Почему так? Да вероятно, оттого, что всем было хорошо известно (и мне, естественно, в том числе), что, какие именно последующие мероприятия ожидают подсудимого после оглашения приговора, это ни для кого не секрет. И именно эта ясность, она-то и сковывала мое нутро. А о последующих этапах того неземного суда, о них в точности не знал никто. Ведь никто так и не вернулся оттуда, никто ничего не рассказал, как там все на самом деле, и даже весточки никто, даже самого захудалого письмеца оттуда так и не присылал, отчего слепая надежда и пробуждала во мне некое наивное чувство наподобие уверенности. На самом деле строгость решения того небесного суда, результат, срок и условия отбывания наказания где-то – все это пока в неведомом для нас месте. Они могли быть куда более суровой ношей по сравнению, например, с колонией, где, так или иначе, человек живой, жизнь продолжается, не бог весть какая, но все же жизнь. И все равно, сидя на лавке в зале суда, я продолжал надеяться на чудеса. «Ну пусть даже и тяжелое, ну какое наказание может вынести высший суд? – я продолжал размышлять, то есть уговаривать сам себя, так будет честнее сказать. – Бог ведь един, насколько я помню из писаний. И Он мудрый, Он добрый, это точно! Ведь Он всех прощает, кто бы перед ним ни оказался! Об этом же любая религия твердит, – продолжал я раздувать облако оптимизма в сознании, – так, стоп! Даже если и так, Бог всех любит и всем все прощает, особенно тем, кто раскаялся, хоть я и совершенно не понимаю, в чем есть мои прегрешения, какое преступление я совершил. Наверняка вскоре все прояснится, и я уж точно не откажусь, я раскаюсь в содеянном, если вспомню, конечно. Но вот дилемма, тут же возникает другой вопрос: если все так: прощение, помилование и все в том духе, то, спрашивается, зачем тогда вообще нужен весь этот суд, раз и так всем все отпускается? Традиции?»
Я не успел выгодно закончить свою фантазию, как все присутствующие встали и в зал вошел судья. Он и вправду был седобородым старцем, но был он в мантии, носил аккуратную белесую бородку, и был он в летах. Также за несколько минут до прихода судьи в зал вошли и неспешно расселись по своим местам двенадцать присяжных. Все до единого, они являлись обладателями, а скорее, даже носителями каких-то совершенно безликих для меня черт. Они как все вместе, так и каждый по отдельности представляли собой какое-то явное олицетворение рутины, какое-то явно замыленное равнодушие. Складывалось такое впечатление, будто эти бело-черные субъекты были произвольно выдернуты из общих нескончаемых потоков города и им по большому счету абсолютно все равно, о чем пойдет речь и кого тут нужно будет судить. Они, как водится, были расположены неким особняком, их островок был отгорожен от общего зала деревянными перилами. Лиц было не разглядеть, да, честно говоря, и не хотелось. Их общий, будто бы специально надетый на них траурный гардероб не позволял акцентировать на ком-либо свое внимание, но тем не менее всю эту сплошную картину разбавляла довольно странная градация. Все двенадцать присяжных заседателей были разделены на три равные группы – по четверо в каждой. Ничего вроде бы странного в этом нет, ну сидят они тремя рядами – и что с того? Да, собственно, ничего такого в этом-то и нет, кроме одной, а точнее, нескольких наглых деталей. Каждый ряд имел свой цвет, то есть на каждом ряду находились не просто какие-то опознавательные знаки в виде флажков или еще там какой другой мелочи, а выходило это так, что весь и каждый ряд были полностью выдержаны в различной и вполне конкретной цветовой гамме. Стол, стулья, детали, светильники наподобие маленьких аккуратненьких бра и прочие предметы необходимости и интерьера данного ряда имели единый тон. Да, их было три. Верхний ярус был окрашен в какой-то непривычный для обыденного глаза тон, вроде бы как и фиолетовый, но и сиреневый тоже присутствует, какой-то очень туманный и неконкретный цвет, что совершенно нельзя было сказать об остальных двух. Средний ярус был зеленый, цвета бильярдного сукна, а нижний ряд был темно-бордовый. И все бы ничего, если бы данные цвета соответствовали хотя бы государственной символике или были они помянуты в рамках каких-то традиций юриспруденции, но нет же. Может, конечно, я чего-то и не знал, но этот непривычный триколор вызывал у меня некое смущение, хоть он и гармонично вписывался в общий, преимущественно деревянный интерьер зала суда.
Секретарь монотонно зачитала заголовки формуляров настоящего дела, затем отчиталась о явке присутствующих и так же кратко принялась оглашать правила поведения в зале суда. Основной поток этой информации до меня долетал каким-то размытым эхом, я до конца еще никак не мог привыкнуть, поверить, понять, что все это происходит со мной сейчас и здесь, но некоторые слова все же врезались в меня, оказывая внезапно пробуждающий эффект. В череде фраз, слов, имен я отчетливо услышал слово «адвокат».
Какой, к черту, адвокат? Едва ли тихое возмущение покинуло мои пределы, как рядом, буквально в метре от себя, я обнаружил молодую женщину – это и был мой адвокат. Я робко стоял подле и растерянно смотрел на нее, мне все еще хотелось заявить, громко сказать: «Какой адвокат? Вы о чем вообще? Я вижу этого человека впервые!» Но я колебался. Я не ощущал почвы под ногами. Мне явно недоставало сил, чтобы решиться и все это произнести. Да и к тому же все мои сомнения и полное отсутствие памяти, они не придавали мне уверенности, – а может, адвокат и вправду мой? Может, она действительно представляет мои интересы? Будет отстаивать мои права и находиться рядом. А может, она со мной вообще с первого дня следствия, которого я тоже, к сожалению, не помню, – опять я размышлял. При этом я все больше и больше откуда-то извне начинал ощущать то ли моральное, то ли вполне физическое пологое давление на свою голову и плечи, отчего я еще больше ежился и вжимался в себя.
Глава вторая
Процесс начался незамедлительно. Прокурор сухо и негромко принялся за свое привычное дело:
– Итак, Орешников Данил. Тридцать семь лет. Обвиняется… – он, возясь с бумагами, сделал небольшую паузу и продолжил: – Уважаемый суд, перед началом слушаний по настоящему делу я желаю заявить о намерении стороны обвинения изменить порядок слушаний. Ввиду того, что данное дело в себе содержит три достаточно непростых и объемных эпизода, которые, в свою очередь, так же неизбежно содержат в себе еще ряд сопутствующих деталей. И дабы заранее не смешивать все обвинения в одно, я ходатайствую о том, чтобы мы все вначале ознакомились с этим запутанным делом, а уж после, когда всем все будет понятно, то есть каждый шаг и каждый умысел подсудимого будет нам ясен, тогда-то я пространно и выдвину обвинения.
– У защиты есть возражение? – спокойно спросил судья.
– Нет, Ваша честь, возражений не имею, – учтиво отвечала адвокат. В ее интонации или даже в самой манере речи, в какой-то ее внутренней энергетике, по крайней мере, мне отчетливо слышались подстрочные слова, мол, вертите как хотите! Я всегда уверена в своих силах! И никакие прокурорские ухищрения мне не страшны.
– Ну что ж, раз так всем будет удобнее и, более того, всем будет понятнее суть данного дела, прошу вас, приступайте, – размеренно произнес судья, вызывая в окружающих лицах какое-то доверие к себе и одновременно какой-то незримый пиетет к его опыту и его судебной мудрости. Стукнул молоток.
– Благодарю, – в рабочей манере сказал прокурор. Он привстал, взял в руки одну из папок со своего стола, на котором был строжайший, педантичный порядок, что совершенно нельзя было сказать о столе адвоката. – Итак, Орешников Данил, тридцать семь лет. Встаньте, пожалуйста, за трибуну.
Поверх всех неуемных обращений в мой адрес звучали регулярно также какие-то пояснения, формальности. Они вроде бы уже и долетали до моего сознания, прежнее эхо теперь поубавило свои круги, но все равно мое восприятие еще продолжало быть размытым. Этот путь к трибуне ощущался мной как некая шаткая тропа, где каждая поступь отражалась какой-то совершенной нереальностью происходящего вокруг. И несмотря на то, что расстояние до назначенного места было около полутора-двух метров, мне же эти метры показались какой-то склизкой дорогой, тающей в бескрайности полей. Время не остановилось, нет, это попросту невозможно, время просто замедлило свой ход. Мне показалось, будто бы я нахожусь внутри самого времени, а оно все растекается где-то меж брегами, где-то меж двумя зависшими минутами. И на какой-то краткий миг я словно бы ощутил, будто иду я ранним утром, окутанный весь прохладной вязкой сыростью, иду я будто по той самой дороге. Небо – плотное одеяло облаков, которые совместно с клоками рваного тумана все трутся и трутся о мои очертания, безразлично одаривая меня щедрой внутренней бесконтрольной дрожью. Мое время все так же безучастно продолжало скрывать от меня абсолютно любую возможность увидеть не то чтобы горизонт, а хотя бы некоторые предстоящие мне шаги. И слова напутствия адвоката откуда-то сбоку, словно бы из бурьяна, взлетели они птицей и волной коснулись меня. Мол, говорите все предельно откровенно, расскажите все о своих чувствах, что вы испытывали тогда. Откройте суду все те мысли, что были у вас, все те помыслы, откройте суду все, что двигало вами, все предельно откровенно. Это важно!
– Эпизод первый, – начал прокурор, – Данил, расскажите, как и при каких обстоятельствах вы познакомились с Екатериной Левиной.
Я даже не успел отпрянуть, не успел даже качнуть в сознании мимолетную тревогу на тему: «Что я мог такого с ней сделать? Да и когда это было вообще? Сколько лет-то прошло?», как в голове незамедлительно, причем не легким призраком, а вполне себе ясным и привычно дерзким голосом отозвалась Катя: «Не Левина, мудила, а Лёвина!»
Мне вмиг стало легче. Эта шалость воспоминаний, от которой я, возможно, даже поневоле улыбнулся, она вселила в меня какую-то уверенность. Я, конечно же, откровенно не понимал, с чем связан этот, по сути, лирический допрос, ввиду чего я охотно принялся рассказывать историю давно минувших дней.
Познакомились мы на сайте знакомств, что-то вроде анонимного чата. Мне двадцать шесть, я недавно вылетел с предпоследнего курса медицинского института, гастроэнтерологом я так и не стал. Обидно? Ну как сказать? Скорее, больше нет, чем да. Дело было так. Будучи еще студентом третьего курса, я в качестве подработки устроился в фармацевтическую компанию, и за несколько лет у меня в этой сфере все как-то удачно сложилось. Я неплохо поднялся по карьерной лестнице, а учеба, соответственно, с каждым новым шагом отходила все дальше и дальше на второй план. Вначале меня терпели, подтягивали, входили в положение, а предпоследний курс я вообще толком не посещал. До того момента, до того времени мне все как-то везло, все мне сходило с рук. На самом деле, может, оно и хорошо, что меня отчислили, а то какой бы из меня вышел врач? Катя тоже имела отношение к медицине, ей на тот момент было восемнадцать, и она кончала второй курс медицинского колледжа. Наше с ней знакомство произошло весьма странным образом, хотя, с другой стороны, за свою жизнь я ни разу не встретил ни одной пары, в которой сказали бы, что они познакомились как-то стандартно и однообразно, что в их истории не было никаких особенностей, запоминающихся обстоятельств и, вообще, что в начале пути у них не было ни единой придури в отношениях. Практически сразу, буквально спустя несколько фраз стандартных приветствий в чате, она скинула мне свой номер. Нет, меня это не насторожило, хотя ранее я уже не раз переживал неприятные моменты из-за некоторой своей доверчивости к людям. Как-то я проникаюсь ими, что ли, как-то легко вхожу в круг их забот, вот вроде бы мгновение, и я уже участник абсолютно чужих дебрей. Не сказать чтобы я прям вмиг вспыхиваю и, становясь рьяным, с головой ухожу в рядом текущую жизнь, как знакомую, так и вовсе постороннюю, нет, я просто всегда умел по-докторски слушать. Оптимизмом от меня точно никогда не пахло, но и кардинальных шагов я никогда не совершал, я не был решительным. Я ей тогда сразу написал в мессенджере, не задумываясь совершенно ни о чем. Может, я и сознательно желал притянуть к себе того, кто пожалуется мне на свои трудности, не знаю. Не из сердобольности я делился своим вниманием, а скорее, так – случайно, и, как ни странно, этот посторонний надрыв обязательно случался на моем пути. Может, какая такая черта во мне и присутствует, вероятно, привитая Гиппократом, хотя вполне может быть, что эта нить судьбы является и моим врожденным качеством. Очень сложно акцентированно выделять в себе подобные составляющие душевной морфологии, скорее, даже это мало возможно. Много еще чего тут можно накручивать и о чем размышлять, но тем не менее мне тогда хватило одного лишь голосового сообщения от нее, чтобы я взял мгновенно, вынырнул из своей привычной среды и наскоро перенесся в иное измерение совершенно незнакомого мне лица.