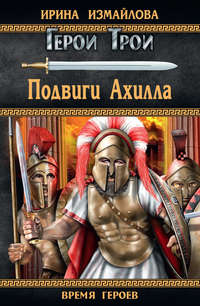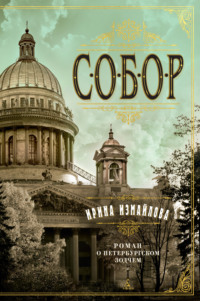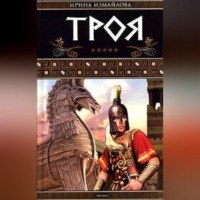Полная версия
Собор. Роман с архитектурой
Однажды они наведались в дом пожилой дамы, которая по доброте душевной приютила у себя полдюжины юных девиц, оставшихся, вероятно, без крова и содержания, а чтобы не остаться самой без корки хлеба, приглашала в гости молодых и немолодых мужчин, лишенных почему-то (временно или постоянно) женской ласки. Допускались к мадам Кюи не все подряд, а лишь лица, рекомендованные ее друзьями, ибо дом ее слыл совершенно порядочным, а девицы числились родственницами и служанками, однако у Антуана нашлись связи и здесь.
Что греха таить, такое посещение не ошеломило Огюста и не поставило его в тупик. Он не был по природе своей развратен, а бедность заставила его, избегая откровенной уличной грязи, вести жизнь сдержанную и достаточно целомудренную, однако он не давал никаких обетов на этот счет и доступными радостями пользовался в той мере, в какой они не роняли его достоинства, так что в двадцать семь лет опыта у него было достаточно, а излишней скромностью он не страдал, уже не раз убедившись в том, что женщины его любят. Вечер, проведенный в доме мадам Кюи, убедил в том же и Антуана. Чернокудрый красавец, всегда уверенный в своей неотразимости, не без досады заметил, что юным «родственницам» пожилой матроны его друг понравился, во всяком случае, не меньше, чем он сам, и они осыпали его ласками наперебой, прямо-таки отнимая друг у друга.
– Подумать только, а ты, оказывается, сердцеед! – воскликнул Антуан, когда уже под утро, спотыкаясь в полутьме о неровности мостовых, они тащились через зловещую Гревскую площадь[9], вблизи которой, бросая вызов Богу и закону, поселилась мадам Кюи.
Огюст снизу вверх с чуть заметной улыбкой посмотрел на своего товарища и спокойно проговорил:
– Тони, я знаю, что я не Нарцисс и не Гиацинт[10]. Но, как видишь, это мне не мешает. Я еще не пытался совращать неприступных красавиц, просто случая не было, но думаю, если бы мне уж очень захотелось…
– Ни одна бы не устояла? – весело блестя глазами, спросил Антуан.
– Ручаться за всех на свете женщин не могу, то было бы неумно, – со вздохом проговорил Огюст, – так что «ни одна» не скажу… Ну… почти ни одна, вот так будет вернее.
С минуту Модюи колебался, потом вдруг хлопнул товарища по плечу и воскликнул:
– Ловлю же тебя на слове! То, что ты сказал, звучит очень смело. Докажи мне, что это так!
– Каким образом? – удивленно взглянул на него Огюст.
– Соблазни женщину, которая, как о ней говорят, показала на дверь уже половине мужчин в Париже.
В голосе Тони прозвучал вызов, а слова его, хотя и заставили Огюста ощутить на спине щекочущий волнующий холодок, однако вызвали скорее раздражение.
– Что ты дразнишь меня, мой дорогой? Чтобы подступиться к этакой салонной львице, надо иметь для начала хотя бы тысячу франков. У тебя я их не возьму, не то придется потом отдать тебе побежденную Брюнхильду нетронутой на брачном ложе[11], а меня сие не устраивает, ну а у меня, как ты знаешь…
– Ты ничего не понял! – расхохотался Антуан. – Брюнхильда эта вовсе не салонная львица, и кроме тебя, затворник ты мой, верно, не найдется в Париже мужчины, который не видал бы ее чудесных точеных коленок. Однако, тем не менее, подступиться к ней никто из моих знакомых не сумел, и кто ее любовник, если таковой есть, никому не ведомо. Ручаюсь, что в скором времени им буду я, однако, раз ты так смел, попробуй меня опередить.
– Ничего не понимаю! – растерялся Огюст. – Что это за женщина, чьи колени видел весь Париж? Она что же?..
– Она наездница в цирке! – продолжая смеяться, Тони взял товарища под руку и заговорил весело и возбужденно: – Понимаешь ли, красоточка, каких мало, я, пожалуй, таких ножек не видел ни в Париже, ни в Булони, ни в Риме, ни, черт побери, в Петербурге! В лице же больше скорее не красоты, а какого-то пленительного своеобразия. Само собою, она не мадам Рекамье[12], но ей-же-ей, уступит не многим! На второй день после моего приезда я забрел в цирк и увидел ее, и с тех пор побывал там уже семь раз и уже познакомился с ней.
– Ах, вот как! – возмутился Огюст. – Ты сделал половину дела, а теперь говоришь «опереди меня»… Весьма мило с твоей стороны!
– Повторяю тебе, это вовсе не та женщина, – рассердился Антуан. – «Половину дела»! Ни шагу, уверяю тебя, к конечной цели. Да, она легко впустила меня в свою уборную (правда, когда уже оделась), она взяла у меня два раза цветы, мило слушала мою пустую болтовню и даже отвечала мне (между прочим, она умна, прими это к сведению, ибо это при знакомстве с женщиной – самое большое неудобство, равно, как и самая неприятная черта женской натуры), да так вот, она мне отвечала, но все это ровно ничего не значило, такова она и со всеми остальными и всем одинаково в нужную минуту дает понять, что дальше продолжать бессмысленно. И дает понять в таких выражениях, а главное, таким тоном и с таким взором, что все тут же и исчезают с самым горьким разочарованием.
– Но ты же не исчез.
– Я?! Ну, это было бы чересчур, мальчик мой! – черные глаза Антуана засверкали бесовским пламенем, в эту минуту он был еще красивее, чем обычно. – Говорю тебе, она будет моя, раз я так уж ее хочу. Но быть может, тебе раньше удастся сломать эту печать, кто знает? Хочешь побиться со мной об заклад?
– Неизвестно, чего ради? – пожал плечами Огюст. – Я еще не видел ее, Тони, и хотя в твоем вкусе не сомневаюсь, рисковать не хочу. Да и стоит ли нам соперничать из-за циркачки? Неприступность ее ты, верно, преувеличиваешь. Сколько ей лет? Шестнадцать?
– Да нет, пожалуй, около восемнадцати.
– Ха-ха! И ты что, воображаешь, что она может оказаться девственницей?
Модюи опять залился смехом.
– По-твоему, я дурак? Я же сказал «восемнадцать», а не «восемь»… Но неприступность женщины, на мой взгляд, куда интереснее преодолеть, нежели неприступность девицы, ведь во втором случае целомудрие – это привычка и неведение, а в первом – игра и расчет, ум, воля… Нет, ты посмотри на нее, Огюст, и мы наверняка будем спорить. Сегодня же идем в цирк!
– Сегодня?! Пожалей меня! – взмолился Огюст. – В таком мраке циферблата не разглядишь, но я уверен, сейчас уже около семи. В девять я должен быть на строительстве этих чертовых гвардейских конюшен. Успею только выпить чашку кофе и привести в порядок свое платье. На сон – ни минуты. На кого же я буду похож вечером? Хочешь сделать меня заранее безвредным? Пойдем завтра, а?
– Согласен! – воскликнул Модюи. – И посмотрю я на твою физиономию, когда ты увидишь мадмуазель Пик де Боньер. Это ее цирковое имя. Настоящего, кстати, даже я пока не знаю.
На следующий день они встретились возле внушительного, помпезного здания Олимпийского цирка[13], перед которым уже за час до начала представления толкалась толпа парижан.
Антуан появился с букетом цветов и своим уверенным видом бросил товарищу новый вызов.
Представление началось с великолепной сказочной феерии, где вместе с наездниками и танцовщицами на арене появились дрессированные газели и нежные, как хлопья январского снега, белые голуби, потом перед зрителями выступили «гладиаторы», конные и пешие, которые отчаянно сражались деревянными мечами и очень естественно «умирали», озаренные множеством факелов, разбросав по арене широчайшие алые плащи, словно разлив озера крови, затем пожилой красавец в камзоле с золотым шитьем заставил шестерку белых статных лошадок танцевать котильон и к восторгу зрителей, раскланиваясь, становиться на передние колени, – и вот после всего этого другой красавец, в алой мантии сказочного принца и с лихими усами бывалого гусара, вышел в середину арены и вскричал звенящим фальцетом:
– А теперь вы увидите саму Ипполиту, царицу прекрасных и воинственных амазонок! Мадмуазель Пик де Боньер, жемчужина нашего цирка, покажет вам свое искусство!
Цирк зашумел. На арену выехали двенадцать всадниц на черных лошадях, всадниц, одетых в смешные посеребренные латы, похожие на круглые бочки, с отверстиями для рук и голов, с пышнейшими уборами из перьев на голове и с блестящими секирами, которые они на скаку принялись подкидывать и ловить, вертясь и перегибаясь в седлах.
Зазвучала барабанная дробь. Всадницы прекратили свои упражнения, расступились, окружив арену, и на середину ее вылетел белый, как снег, конь.
– Браво! – заорали в разных рядах зрители.
На коне, в ало-золотом седле, сидела девушка. На ней был белый хитон, короткий, как туника, его края лишь касались ее колен. Грудь была прикрыта золотистой пластиной, перехваченной стянутыми на спине шнурами. Над круглым золотым шлемом трепетали алые перья, а из-под шлема, рассыпаясь по плечам, закрывая всю спину, падали черные, как ночь, волосы.
– Хороша! – невольно вскрикнул Огюст, всматриваясь в девушку.
– Ага! – злорадно прошипел Антуан.
«Амазонки» на черных лошадях еще раз рысью обогнули арену и исчезли. А прекрасная Ипполита тронула поводья и пустила своего коня широким шагом по кругу. Круг, еще круг. Конь перешел с шага на рысь, потом на галоп. И вдруг оказалось, что всадница уже не сидит в седле, а стоит на нем, легко, едва касаясь его ногами. Цирк испустил глухое восхищенное: «О-о-о!» В руках Ипполиты появился короткий золотистый меч, и она принялась им жонглировать. Она выделывала невероятные сальто, кружилась, танцевала на седле, а конь двигался все быстрее и быстрее…
Это было удивительное, фантастическое зрелище. Но вот показалось: оступается, падает… Нет, все то же: арена, конь, красавица…
– Господи Иисусе! – прошептал Огюст, не замечая, что рука его до боли сдавила в этот момент колено сидящего рядом Антуана.
– Бр-р-а-а-во!!! – взорвался громадный зал Олимпийского цирка.
Мадмуазель де Боньер уже стояла на освещенной арене, соскочив с коня и уронив к своим ногам золотой меч, а конь ее, которого она подозвала коротким свистком, опустил голову, тоже украшенную алым султаном, на ее влажное от пота плечо…
На несколько мгновений они застыли неподвижно, чтобы публика могла налюбоваться их красотою, затем девушка раскланялась во все стороны, подняла меч, снова коротко засвистела, и конь ринулся прочь от нее, но она догнала его, на бегу поравнялась с ним, вскочила на седло, и унеслась прочь с арены под неистовый рев зрителей.
– Да-а! Хороша, черт возьми! – произнес Огюст, когда шум стал смолкать.
– То-то! – не скрывая торжества, усмехнулся Антуан. – Ну, так что ты скажешь? Одолеешь такую?
– Саму царицу амазонок Ипполиту? А что? – синие глаза Монферрана смеялись. – Отказаться от нее было бы глупо! Но если ты уж очень влюблен…
– Нет, не ищи путей к отступлению! – Модюи вошел в азарт и заговорил довольно громко, не замечая сидящих вокруг людей. – Я же говорил тебе: давай поспорим! Будешь спорить?
– Буду! Но только на что, Тони?
– На ящик шампанского! Идет?
– А! Пусть так! – Огюст с размаху хлопнул ладонью по подставленной ладони Антуана, и они соединили пальцы. – Только учти: этим ты вынуждаешь меня выиграть – если я проиграю, то буду разорен дочиста…
Модюи засмеялся:
– И поделом тебе будет – не спорь. Ну так идем же: я познакомлю тебя с нею…
Когда они вошли в ее крошечную каморку-уборную, девушка сидела в глубоком кресле, спиной к двери, запрокинув головку с распущенными волосами на спинку кресла. Султан она сняла, и дерзкий цирковой наряд спрятала под темно-синим атласным халатом.
– Кто там? – спросила она, не поворачивая головы.
Ее глубокий голос, низкий и мягкий, звучал почти сердито.
– Простите, мадмуазель, но вы позабыли сегодня запереться, – сказал с порога Модюи.
– А, это вы, Антуан! – уже другим тоном, дружелюбно, но холодновато, проговорила артистка. – Добрый вечер, только предупреждаю, сегодня без провожаний: я устала.
– Жаль, жаль! – Антуан подошел к креслу и поманил за собой товарища. – А я хочу просить у вас позволения представить вам моего друга. Можно?
Девушка вскинула глаза на Модюи, ибо он уже навис над ее креслом и осторожно взвешивал на ладони черные струи ее волос.
– А кто ваш друг? – спросила она. – Опять какой-нибудь офицер?
– Нет, моя прелесть. Как и я, всего лишь архитектор. Позвольте же вам представить: мсье Огюст де Монферран.
– Как звучно! – воскликнула мадмуазель де Боньер и, наконец, обернулась ко второму своему гостю:
– Я очень рада вам, мсье. Я…
Но слова застряли у нее в горле. Лицо, только что покрытое легким свежим румянцем, залила смертельная бледность, однако мгновение спустя оно вспыхнуло еще ярче, на щеках зацвели алые пятна, губы задрожали. Она вскочила с кресла, распахнув невольно свой халат, открывая белый хитон амазонки. Руки ее вскинулись, протянулись вперед, и она вскрикнула, задыхаясь, захлебываясь смятением и восторгом:
– Анри?!
Огюст так и застыл перед нею, совершенно ничего не разумея. Он растерялся бы куда меньше, если бы встретил полное равнодушие или даже презрение. Что бы это могло значить? Что означает это имя, забытое имя его детства, в устах незнакомой женщины?
– Анри? – повторил он недоуменно. – Почему вы… Откуда вы знаете это мое имя, мадмуазель?
Девушка отшатнулась. Опять погас ее румянец, руки тотчас упали.
– Так вы не узнали меня? – произнесла она глухо, с таким отчаянием, что ему стало еще больше не по себе.
Но почти тотчас же наездница рассмеялась и, смеясь, опять упала в свое кресло.
– О, какая же я дурочка! Извините меня… Я думала, вы пришли именно ко мне, я думала, вы искали меня. Нелепая мысль! Извините.
И в это самое мгновение Огюст ее действительно узнал. Он вспомнил эти черные глаза странной формы, этот тонкий рот с губами, еще сохранившими отчасти полудетскую пухлость, этот взлет ресниц, эту гордую ненарочитую пластичность движений и царственную посадку головы. Он вспомнил ее голос.
– Элиза! – закричал он, бросаясь к креслу и, вопреки всяким приличиям, хватая девушку за руки. – Элиза Боннер! Святая Дева Мария! Это вы?!
– Узнал! – прошептала она и зажмурилась, но это не помогло: слезы пробились из-под ее век и потекли по щекам. – Узнал… Не сердитесь, пожалуйста, Анри, что я так… Но вы обещали меня найти!
– Как же я мог?! Откуда же я знал?! После ранения я не мог вспомнить даже названия городка, где мы встретились… Но я знал, Элиза, что мы все же увидимся, только не думал, что вы станете такой красавицей!
Человек никогда не лжет так убедительно и пылко, как в минуты волнения и душевного подъема, и, кроме того, Огюст даже не понимал до конца, что лжет. Название городка он, разумеется, помнил великолепно, а во всем остальном не так уж и сильно преувеличивал…
– Вот так штука! – воскликнул, опомнясь, Тони. – Так, выходит, вы знакомы давно?
– Это – моя спасительница, Антуан, моя маленькая Армида![14] Я же тебе рассказывал пять лет назад… Господи, вот это встреча, чтоб мне пропасть! Мог ли я думать, а?
– Могли ли вы думать, что я стану циркачкой? – смеясь и отирая слезы рукавом халата, спросила Элиза.
– Мне в голову не пришло бы искать вас здесь! – вполне уже искренно сказал Огюст. – И… И отчего вы мадмуазель Пик де Боньер?
– В цирке это принято, – она встала, не отнимая у него своих рук, лишь в смущении скользнув глазами по распавшимся полам халата. – А вот отчего вы мсье де Монферран?
Он расхохотался.
– Да, это вы, вы – прежняя Элиза! Не знаю, как вам выразить… Я ужасно рад. Да что там – просто счастлив!
– И я не меньше, – проговорил Антуан, искусно скрывая досаду и незаметно пятясь к дверям. – Мадмуазель, напомните ему, когда он придет в себя, что это я его сюда привел. Ну а пока повремените с объятиями – дайте мне время достойно удалиться…
Он исчез.
Минуту, а может быть и две, Огюст и Элиза молчали. Потом он поцеловал ее руку и уже тихо, очень серьезно спросил:
– Ну а все-таки, что-то ведь случилось? В вашей жизни что-то произошло, да? Где ваши родные? Как вы попали в цирк?
– По доброй воле, – просто и спокойно ответила девушка. – По доброй воле, Анри. Три года назад я сбежала из дому с цирковым балаганом. Год назад попала сюда.
– Но почему? Но зачем вы это сделали? – вновь настойчиво спросил молодой человек. – Вам там было плохо?
Она улыбнулась.
– Здесь мне лучше. И потом, я мечтала оказаться в Париже.
Сказать больше она уже не могла. Но Огюст и так все понял.
– Вы искали меня? – спросил он.
– Да, – просто ответила Элиза.
И не отстранилась, когда он, рванувшись к ней, стремительно и жарко обнял ее.
VIIС этой ночи начались их странные, не до конца понятые ими самими отношения… Спокойно, с радостью, Элиза отдалась человеку, которого любила все эти пять лет. А он почувствовал себя счастливым, совершенно счастливым, как в детстве, как в те далекие, упоительные минуты, когда его отец вскакивал в седло с маленьким Анри на плечах, и посылал коня вскачь, и небо мчалось над головой малыша… или когда его юная мать в своем белом кисейном платье, легком, как перистое облако, бегала за ним по цветущему весеннему скату холма, цветы щекотали ему лицо, а смех ее настигал и дразнил, подгоняя бежать, но вот теплые руки хватали его подмышки, вскидывали, и он, хохоча, барахтался у нее на груди…
Этих минут, в которых, как в вечности, хотелось утонуть и раствориться, было, как ему казалось теперь, слишком мало… Он стал забывать неповторимое чувство блаженства… И теперь испытал его вновь.
Окно Элизиной спальни выходило на узкую безлюдную улицу, за которой был сад. Темный, облетевший, он в это утро был просвечен насквозь множеством солнечных лучей и стал наряден в своих убогих зимних лохмотьях.
На дороге оттаивали замерзшие ночью лужи, из луж пили воду взъерошенные воробьи. На них щурилась сытая рыжая кошка, вышедшая на прогулку и теперь лениво гревшаяся у садовой ограды.
Огюст выбросил было руки из-под одеяла, чтобы как следует потянуться и отогнать остатки сна, но его тут же пробрал щекочущий острый холод, и он поспешно нырнул под одеяло с головой.
– Ax ты, неженка! Хочешь, я затоплю печь? – Элиза рассмеялась.
– Не надо топить, я и так сейчас согреюсь! – Огюст высунул из-под одеяла лоб, глаза и кончик носа. – Мне утром всегда почему-то сначала холодно…
Элиза налила ему янтарного вина (она уже давно стояла у зеркала, расчесывая свои черные, прямые, как струи дождя, волосы, и, улыбаясь, радостно и восхищенно взглядывала на него):
– На, согрейся, неженка, если не хочешь, чтобы я затопила.
Потом, умывшись над маленьким фарфоровым тазом, он стал одеваться, опасливо отойдя подальше от окна.
– Не бойся, – Элиза, разогревая кофе на медной жаровенке, поглядела на него через плечо. – Тебя никто не увидит: под этим окном почти не бывает людей в это время года.
– Я и не боюсь, – он взял с подзеркальника ее гребень и начал расчесывать свои упрямые кудри. – Мне-то чего бояться? Я тебя не хочу компрометировать.
– Ком-про-ме-ти-ро-вать? – в ее голосе и в тоне прозвучала насмешка. – Или ты думаешь, что цирковую наездницу кто-то считает порядочной девушкой? Вот ты, когда сюда со мной шел, что про меня думал?
Огюст покраснел. Он был не настолько испорчен, чтобы солгать в подобной ситуации.
– Какая разница, что я думал, когда шел сюда? Важно то, что я теперь думаю.
Она лишь чуть-чуть повернула голову, но он успел заметить ее легкую ласковую улыбку.
– Анри, я тебе очень благодарна, – тихо сказала она.
– За что? – искренне удивился молодой человек.
– Ну… За то, что ты такой добрый, нежный… И… Ведь тебе со мной было не хуже, чем с другими женщинами, да?
Он сзади обнял ее, перегнулся через ее плечо, провел губами по бархатной теплой щеке.
– Лиз, так хорошо, как с тобой, мне было только с одной-единственной женщиной. Ее звали Мария-Луиза.
Элиза вздрогнула, испуганно обернулась.
– Ты сказал «звали»? Ты оговорился?
– Нет. Когда ей было тридцать три года, а мне было семнадцать, она умерла. Это была моя мама.
– Мария-Луиза, – чуть слышно повторила девушка. – Я стану молиться за нее, Анри!
– Да, молись за нее, Элиза, ибо твои молитвы слышит Бог, я убедился в этом… Отец рано умер, а родня его ее очень обижала. Особенно мой дядя Роже… Их злило, что отец женился на дочери купца… Мои родственники, маленькие снобы, решили, что это мезальянс…
Элиза разлила кофе, поставила его на столик возле окна, достала печенье и засахаренные фрукты в вазочке богемского хрусталя.
– Садись, Анри, завтракать. Ты извини, еды у меня немного – я не ждала гостей… А скажи, отчего твои родственники не любили твою матушку? Я слышала не раз, что дворяне женились на простых девушках, правда редко…
Огюст засмеялся.
– Это все Роже. Другие бы промолчали. А он… Господи, прости, что так поминаю! Ты слышала такое выражение – «мещанин во дворянстве»?
– Да. И читала. Я за эти годы очень много успела прочитать, Анри. Я уже не так наивна, как была, когда мы познакомились. Но только при чем здесь твой дядя? Он же настоящий дворянин.
Он взял у нее чашечку кофе и, размешивая в нем сахар, весело посмотрел на девушку.
– Раз на то пошло, я нарисую тебе наше генеалогическое древо, чтобы ты знала, кто я и что. Прежде всего, Роже, царство ему небесное, любил повторять: «древний и славный род». Род, и правда, древний: Рикары, говорят, жили в Оверни чуть ли не со времен Людовика Одиннадцатого, и среди них бывали и славные вояки, и отчаянные наездники, и охотники, и моряки. Но только дворянским наш род не был, и фамилия сама об этом говорит. Дворянство получил мой прадед, его тоже звали Огюстом, и это вторая причина, отчего меня, единственного наследника рода, стали так называть. Однако же случай, сделавший прадеда дворянином, моя родня ото всех хранит в тайне. Отец поведал ее матери, а мать – мне, под самым строгим секретом.
Глаза Огюста смотрели насмешливо и загадочно, и Элиза не утерпела:
– А мне ты не расскажешь этот случай, Анри? Я никому-никому…
– Да? Допустим. Ну, так слушай же. Многие в нашем роду были связаны с лошадьми. Мой отец служил в казарме берейтором, занятие как раз для бедного дворянина. Берейтором был и прадед, только ему повезло служить при дворе его величества Людовика Пятнадцатого. И вот как-то раз королевский двор выехал на охоту. Охотились где-то в Арденском лесу. Красотою пышного охотничьего наряда блистала мадам де Помпадур[15]. Но ей случилось в этот день о чем-то повздорить с королем и, обиженная, она ускакала одна в густую рощу, чтобы быстрой ездой остудить свой гнев. Не знаю уж, как это приключилось, но только конь ее понес, и маркиза не удержалась в седле. Она упала, но ножка ее застряла в стремени, и если бы ее светлость не ухватилась вовремя за край бархатной попоны, взбесившийся конь потащил бы ее головою по земле.
– Какой ужас! – ахнула Элиза.
– Да уж, думаю, она пережила тяжкие минуты, бедняжка маркиза… Но ужаснее всего ей, как мне кажется, представлялась даже не возможность гибели, а неизбежность позора; конь нес ее прямо к тому месту, где расположились на берегу реки король и придворные, еще несколько минут, и они должны были ее увидеть, но в каком облике… О-о-о! И тут на пути бедной маркизы попался мой прадед, мсье Огюст Рикар. Он ехал верхом, ведя в поводу еще одну лошадь для охотников. Увидев, в каком положении оказалась бедная женщина (а кто она такая, он и не подозревал), храбрый берейтор бросил повод запасной лошади, ринулся вскачь наперерез коню маркизы и сумел его остановить. И только сняв с седла полумертвую наездницу, понял, кто это…
Маркиза поблагодарила его, разумеется, намекнув, что в случае, если он окажется нескромен, ему придется умолкнуть навеки, затем она подарила ему перстень со своей ручки, попросила отыскать ее парик, сколько было возможно, привела себя в порядок и отправилась к королю. Не знаю уж, что она рассказала его величеству, но на другой день король вызвал к себе берейтора Рикара и, наградив его тысячей пистолей, пожаловал ему потомственное дворянство, однако повелел вернуться из Парижа в Овернь. Ну и как? Интересно тебе было это слушать?
– О, даже очень! – с настоящим восторгом проговорила Элиза. – Как будто из рыцарского романа история. Но ты открыл мне фамильную тайну. Отчего?
– А чтобы ты не ставила между нами стены, моя милая, маленькая Лизетта!
И он, поймав ее руку, прижал к губам ее ладонь. Они допили кофе. Девушка вдруг стала серьезна и сидела, задумавшись. Потом Огюст встал из-за столика.
– Мне, увы, пора. Я сегодня опоздаю на службу…
– А ты придешь еще? – спросила Элиза, словно не придавая значения его предыдущим словам.
– Конечно приду. Если можно, то даже сегодня. И, между прочим, через неделю – мой день рождения, и я надеюсь на ваше общество, мадмуазель. Как-никак, мне исполнится двадцать семь лет.
Элиза подняла брови.
– Двадцать семь! А мне осенью исполнилось восемнадцать… О, какой же ты старый, Анри!
– Ужасно! – он обнял ее, притянул к себе и утонул лицом в ее волосах. – И как только ты смогла полюбить такого старика? Наверное, ты скоро меня разлюбишь!