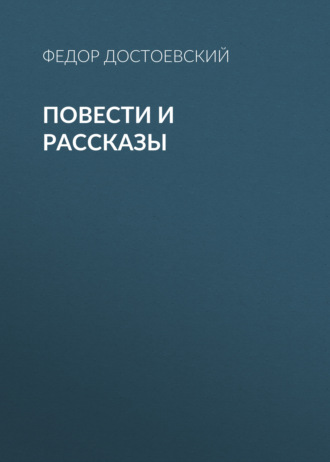 полная версия
полная версияПовести и рассказы

Федор Михайлович Достоевский
Повести и рассказы
Сборник
Дядюшкин сон
(Из мордасовских летописей)
Глава I
Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие искренно ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, – отчего она, при всем этом, умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтоб эта сановитая дама была первая сплетница в мире или по крайней мере в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии; сплетники – краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе как о самых высоких материях. Она знает, например, про кой-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их при удобном случае и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика! – Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным comme il faut[1], с которого все берут образец. Насчет comme il faut она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах, она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна с гордостию их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карльсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке четыре тома in quarto[2], так был обворожен приемом и любезностию Марьи Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку и из самого Карльсруэ. Марью Александровну сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос: отчего, скажите, у Наполеона закружилась наконец голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не gentilhomme[3] хорошей породы; а потому, естественно, испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь: отчего у Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова и она всегда останется первой дамой в Мордасове? Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: «Ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах?» Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и – ничего! Все оставалось благополучно, по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеич, лишился своего места за неспособностию и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало: Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша, Анна Николаевна Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде.
Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеиче, супруге Марьи Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил; но в критических случаях он как-то теряется и смотрит как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах, в своем белом галстуке. Но вся эта сановитость и представительность – единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне; это всеобщее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он мог бы приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеича в подгородную деревню, в трех верстах от Мордасова, где у нее сто двадцать душ, – мимоходом сказать, всё состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеича при себе единственно за то, что он служил и получал жалованье и… другие доходы. Когда же он перестал получать жалованье и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностию и совершенною бесполезностию. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час и довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги, не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели; три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и – доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас, года полтора назад, по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи Александровны и Афанасия Матвеича? Зинаида, бесспорно, красавица, превосходно воспитана, но ей двадцать три года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одною из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях, полтора года назад, с уездным учителишкой, – слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове, но скажите: кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда ж она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марье Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было и Зина написала записочку (я даже думаю, что это было непременно так): какова же ловкость со стороны Марьи Александровны! Каково замято, затушено неловкое, скандалезное дело! Ни следа, ни намека! Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету; а между тем, может быть, бог знает как работала, чтоб спасти неприкосновенною честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно: какие здесь женихи? Зине только разве быть за владетельным принцем. Видали ль вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгляков, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое Мозгляков? Правда – молод, недурен собою, франт, полтораста незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун, с какими-то новейшими идеями! Да и что такое полтораста душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе!
Все, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцев пять тому назад, единственно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить все это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое золотое, но, слава богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость, то сочинение мое и осталось у меня в столе, в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло пять месяцев – и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие: рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только три дня, но эти три дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более: князь произвел, в некотором смысле, переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове: тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить: что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марьи Александровны, – а для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.
Глава II
Начну с того, что князь К. был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится: до того он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Мордасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи, самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством, который мог бы иметь, если б захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому лет шесть или семь, во время его пребывания в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника. Вот, однако же, все, что я мог узнать о нем достоверного.
Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил все свое состояние и, в старости, увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти шесть месяцев он ухлопал все, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностию самого высшего общества, а потому, вместо досады, производили даже эффект. Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку – все, до последнего волоска, накладное и великолепного черного цвета; белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице и что эти пружины были, каким-то особенным образом, скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка, во время одного своего любовного похождения, в Италии. Он хромал на левую ногу; утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему, при каком-то другом похождении, в Париже, зато приставили новую, какую-то особенную, пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут? Но верно было, однакоже, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, душился и помадился. Помнят, однакоже, что князь тогда уже начинал приметно дряхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже и от которой он никаким образом не мог ожидать наследства, – умерла, похоронив, ровно за месяц до своей смерти, своего законного наследника. Князь, совершенно неожиданно, сделался ее законным наследником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения, ровно в шестидесяти верстах от Мордасова, достались ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед, по подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново (свое новоприобретенное имение) и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад, с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с монплезирами и другими затеями.
Наконец князь воротился, но, к всеобщему удивлению и разочарованию, даже и не заехал в Мордасов, а поселился в своем Духанове совершенным затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохи история князя становится туманною и фантастическою. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось, что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели, по слабоумию князя, выхлопотать над ним какую-то опеку, вероятно, из боязни, что он опять все промотает. Мало того: иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом, но что какой-то из его родственников, один важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь, вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повторяю опять: мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасове? Все это, как рассказывали, ужасно испугало князя, до того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника. Некоторые из мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздравлениями, но – или не были приняты, или приняты чрезвычайно странным образом. Князь даже не узнавал своих прежних знакомых. Утверждали, что он и не хотел узнавать. Посетил его и губернатор.
Он воротился с известием, что, по его мнению, князь действительно немного помешан, и всегда потом делал кислую мину при воспоминании о своей поездке в Духаново. Дамы громко негодовали. Узнали наконец одну капитальную вещь, именно: что князем овладела какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, бог знает какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга, пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях и с ключами в руках; что князь слушается ее во всем как ребенок и не смеет ступить шагу без ее позволения; что она даже моет его своими руками; балует его, носит и тешит как ребенка; что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, и в особенности родственников, которые начали было понемногу заезжать в Духаново, для разведок. В Мордасове много рассуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно; отрешает управителей, приказчиков, прислугу, собирает доходы; но что управляет она хорошо, так что крестьяне благословляют судьбу свою. Что же касается до самого князя, то узнали, что дни его проходят почти сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков; что остальное время он проводит с Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смирной английской кобыле, причем Степанида Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках, на всякий случай, – потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится на седле. Видели его иногда и пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на шее, с стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветков, васильков; Степанида же Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два саженные лакея и едет, на всякий случай, коляска. Когда же встречается с ним мужик и, остановясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и приговаривает: «Здравствуй, батюшка князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!» – то князь немедленно наводит на него свой лорнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему «Bonjour, mon ami, bonjour!»[4], и много подобных слухов ходило в Мордасове; князя никак не могли забыть: он жил в таком близком соседстве! Каково же было всеобщее изумление, когда в одно прекрасное утро разнесся слух, что князь, затворник, чудак, своею собственною особою пожаловал в Мордасов и остановился у Марьи Александровны! Все переполошилось и взволновалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга: что это значит? Иные собирались уже ехать к Марье Александровне. Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались записками, собирались с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным казалось, отчего именно князь остановился у Марьи Александровны, а не у кого другого? Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-то очень дальней родней. Но, чтоб разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье Александровне, к которой милости просим пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только десять часов утра, но я уверен, что она не откажется принять своих коротких знакомых. Нас, по крайней мере, примет она непременно.
Глава III
Десять часов утра. Мы в доме Марьи Александровны, на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка, в торжественных случаях, называет своим салоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром, весьма дурного вкуса. Между окнами, в простенках, два зеркала, с которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами, на столиках, опять часы. У задней стены – превосходный рояль, выписанный для Зины: Зина – музыкантша. Около затопленного камина расставлены кресла, по возможности, в живописном беспорядке; между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны; на нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марьи Александровны в качестве бедной родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за тридцать лет, брюнетка с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще недурна собою. Она веселого характера и большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У ней двое детей, где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасна обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему двадцать пять лет. Манеры его были бы недурны, но он часто приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, недурен собою. Но мы уже говорили об нем: это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне, у рояля, и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности: росту высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная, с могучею, дивною грудью. Ее плечи и руки – античные, ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна; но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам три дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезно и строго. Мосье Мозгляков как будто боится ее пристального взгляда; по крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет; впрочем, к ней все идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету, – не из маменькиных; Мозгляков никогда не смел спросить ее: чьи это волосы? В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хотя изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным, подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее.
– Я так рада, так рада, Павел Александрович, – щебечет она, – что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говорю уж о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного; это уж само собой! Я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка! Но нет, нет! Вы не поймете меня! Вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверяла вас! Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет шесть тому назад, помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла: ты тогда гостила у тетки… Вы не поверите, Павел Александрович: я была его руководительницей, сестрой, матерью! Он слушался меня как ребенок! Было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи; что-то даже как-будто пастушеское… Я уж и не знаю, как и назвать! Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностию, ce pauvre prince![5] Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне! Я с сокрушением сердца думала о нем эти шесть лет. Вы не поверите: он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его. Но наконец-то вы его вырвали из этих клещей! Нет, надобно воспользоваться случаем и спасти его совершенно! Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это? Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Давеча я, впопыхах, обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи, мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок! Я ужасно люблю мелочи, даже в самых важных случаях прежде обращаю внимание на мелочи… и… покамест он еще сидит за своим туалетом…
– Да все то же, что уже рассказывал, Марья Александровна! – с готовностию подхватывает Мозгляков, готовый рассказывать хоть в десятый раз, – это составляет для него наслаждение. – Ехал я всю ночь, разумеется, всю ночь не спал, – можете себе представить, как я спешил! – прибавляет он, обращаясь к Зине, – одним словом, бранился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях; если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе! Впрочем, это в сторону! Ровно в шесть часов утра приезжаю на последнюю станцию, в Игишево. Издрог, не хочу и греться, кричу: лошадей! Испугал смотрительницу с грудным ребенком: теперь, кажется, у нее пропало молоко… Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль алеет, серебрится! Не обращаю ни на что внимания; одним словом, спешу напропалую! Лошадей взял с бою: отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь, едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета, в какой-то элегии. Ровно в девяти верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и два лакея стоят перед нею в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо: лежи себе на боку; не здешнего прихода! Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик – тоже русская душа, спешим на подмогу и, таким образом, вшестером подымаем наконец экипаж, ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще мужики с дровами, ехали в город, получили от меня на водку. Думаю: верно, это тот самый князь! Смотрю: боже мой! Он самый и есть, князь Гаврила! Вот встреча! Кричу ему: «Князь! Дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда; впрочем, тотчас же почти узнал… со второго взгляда. Признаюсь вам, однако же, что едва ли он и теперь понимает – кто я таков, и, кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Петербурге; ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил: он меня поразил, – ну, а ему-то где ж меня помнить! Рекомендуюсь; он в восхищении, обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга и плачет, ей-богу, плачет: я видел это собственными глазами! То да се, – уговорил его наконец пересесть в мой возок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно… Объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь, к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и уважает; что Степанида Матвеевна, – а уж из нас, родственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеевну? – она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала, – что эта Степанида Матвеевна получила письмо такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании: отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать; может быть, и отец и дочь вместе; может быть, еще с прибавкою какого-нибудь племянника, служащего по питейной части… Одним словом, она до того была сконфужена, что дней на десять решилась распроститься с своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах (может быть, даже и на бобах); но стало невмочь без Степаниды Матвеевны! Приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить; но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре и, на самом повороте к иеромонаху Мисаилу, полетел с каретой чуть не в овраг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне; он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал, и вот мы здесь, а князь поправляет теперь наверху свой туалет, с помощию своего камердинера, которого не забыл взять с собою и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений или, лучше сказать – исправлений… Вот и вся история! Eine allerliebste Geschichte![6]












