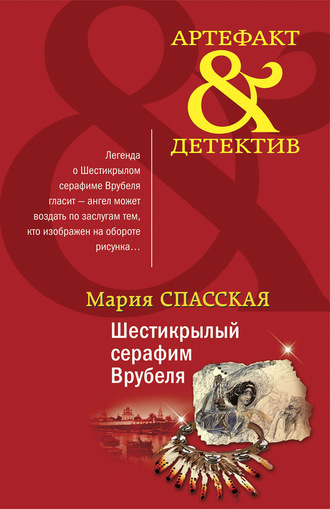
Полная версия
Шестикрылый серафим Врубеля
– Какой вы журналист, если пишете все свои статьи, сидя либо в редакции, либо в вагоне поезда? Я удивляюсь, как вы еще согласились отправиться в эту поездку…
– Честно вам скажу – от жены сбежал. Я же не знал, на какие лишения иду! Я же не думал, что стану таскаться по вымершему городу на самом краю света с неугомонной Сашей Ромейко.
– Так и не таскались бы, сидели бы в гостинице.
– И отпустить вас одну? Ну уж нет! Я, как-никак, мужчина!
– Да что вы все – мужчина, женщина! Какая разница! Бросайте вы уже этот пустой треп.
– И хоть бы какой кабачок попался на пути… Так хочется в тепле присесть, отдохнуть, пропустить стаканчик винца… Вы, Сашенька, моложе меня, глаза у вас зорче. Поглядывайте по сторонам, вдруг увидите еще открытый шинок или трактирчик?
Они дошли до губернаторского дома и остановились перед загадочным изваянием – полуголым, отчасти завернутым в хитон лысым греком с лирой в руке и с уцепившимся за лиру купидоном у грека в ногах. Александра шагнула к гранитному пьедесталу и прочитала высеченную надпись, смутно видневшуюся в млечных сумерках белой ночи:
– Михайло Васильевич Ломоносов.
– Вот так вот, – расстроился репортер Неудобный. – Если бы не подпись, нам бы с вами, Александра Николаевна, ни за что не догадаться, что скульптор изваял известнейшего уроженца здешних мест.
– Интересно, в какой момент творец сего шедевра решил, что это – Ломоносов? Должно быть, изначально он ваял Овидия, но заказчик отказался. Недолго думая скульптор просто подписал на готовой работе – Ломоносов и продал доверчивым горожанам как Михайлу Васильевича, – резвилась Александра.
Вдоволь налюбовавшись на странную фигуру, газетчики свернули в проулок, прельстившись доносившимся оттуда дымком костра. Вкусно пахло вареным мясом, и, увлекая свою спутницу, репортер Неудобный устремился на всполохи огня. Когда подошли ближе, то выяснилось, что костерок горит во дворе полицейской части, где вместе с чумом расположились самоеды. Их было человек десять. Самых разных – пожилых, молодых, детей и стариков. Все они были малы ростом, смуглы, черноваты, с узкими глазами и жидкими масляными волосами. Вокруг чума высились их пожитки – груды неводов, рыбьи кожи, оленьи шкуры, лодки и прочая самоедская утварь. Здесь же, раскинув лапы и вытянувшись во всю длину, в большом количестве спали собаки.
Увидев аборигенов, Александра оживилась и вплотную подошла к костру. Самоеды замерли, с напряжением глядя на незваную гостью. И только сидевшая на корточках старуха, не спуская глаз с огня и чуть слышно тягуче и заунывно напевая, продолжала помешивать длинной темной деревяшкой что-то кипящее в большом котле. Рядом с ней, устроившись на лавке, раскуривал от уголька папироску худой жилистый представитель власти.
– Добрый вечер, – приветливо поздоровалась фельетонистка.
– И вам доброго здоровьица, – подправив рыжеватые усики, откликнулся служивый, пристально глядя на приближающегося Оглоблина. – Путешественники, что ли? – догадался он. – С большого корабля? Чего это вы припозднились? Негоже одним в такое время гулять.
– Мы по работе, журналисты мы, осматриваем окрестности. Я – Оглоблин Кузьма Ильич, а это – Александра Николаевна Ромейко.
– Можно просто Саша, – подсказала девушка.
– Приятно познакомиться, Анимпадист Саватьевич Першин, служу в этих суровых краях урядником вот уже без малого двадцать лет. Журналисты, говорите? Ну что ж, ступайте в дом, чаем напою. Хороший чаек! На травах настоянный.
– А нет ли чего покрепче? – деликатно осведомился репортер Неудобный. – А то, знаете ли, ни одного кабачка по пути не встретилось.
– Есть и покрепче, как не быть? – Урядник широко улыбнулся, обтянув угреватой кожей похожее на череп лицо и обнажив редкие неровные зубы. – А кабачков здесь по пальцами пересчитать, и те под пристальным надзором.
Поднявшись с лавки, Анимпадист Саватьевич двинулся к виднеющейся в конце двора избушке, поманив пришельцев рукой. Александра первой шла за ним и удивлялась – бывают же такие некрасивые люди! Костистый, сутулый, тощий, весь будто бы собранный из шарниров, и пахнет от него табаком-самосадом и чем-то еще, неприятным и горьким.
– Как вам урядник? – шепнула она сопящему позади Оглоблину.
– Приятный человек, – также шепотом ответствовал коллега.
– В самом деле? Приятного человека не могут звать Анимпадист.
– Еще как могут, – в предвкушении скорого угощения подмигнул репортер.
Обогнув полицейскую часть, следом за сутулым урядником прошли по выложенной булыжниками дорожке, поднялись на разбитое крыльцо и зашли в дом. Здесь было тепло, темно и пахло гнилыми кожами. В красном углу перед старинной иконкой теплилась лампадка, на столе едва тлел светильник. Хозяин подлил в плошку масла, и вспыхнувший фитиль осветил пыльные углы. Оглоблин как подкошенный упал на стоящую у стола скамейку и, откинувшись на бревенчатую стену, блаженно прикрыл глаза. Усевшись напротив у открытого окна, Александра кивнула в сторону двора и с любопытством осведомилась:
– Это и есть самоеды?
– Они самые.
Откуда-то появилась дородная румяная баба, низко подвязанная платком, и выставила на стол вареную картошку в мундире, вкусно пахнущие малосольные огурчики, бутыль водки и так же незаметно удалилась. Урядник плеснул водку в железные кружки и лихо крякнул:
– Ну, будем!
И, чокнувшись с гостями, вылил водку себе в рот. Выпил и Оглоблин. Саша пить не стала, только пригубила и поставила почти полную кружку на стол, взяв с тарелки большую горячую картофелину.
– Откуда они? – откусывая и обжигаясь, спросила она.
– Кто? – вскинул белесые глаза Анимпадист Саватьевич.
– Да самоеды же!
– Из Печорского уезда Пустозерской волости, – обстоятельно завел урядник. – Завтра повезу их на Новую Землю.
– Вот это правильно, – заметил журналист. – Можно сказать, жизненно необходимо, чтобы сохранить популяцию. Я читал, будто бы самоеды, приближаясь к возрастающему в губернии русскому племени, самым очевидным образом вымирают.
Закусив картошкой, урядник нудно завел, будто отчитываясь:
– Потому губернатор очень заботится об их переселении на Новую Землю. Уже перевезено и живет около пятидесяти человек, они там чувствуют себя как раз в своей тарелке. Эти переселения не только способны поддерживать вымирающую самоедскую породу, но и вместе с тем заселяют остров, до сего времени необитаемый и подававший вследствие этого повод к мирному захвату со стороны наших иноземных соседей.
– Соседям только дай, все тихой сапой к рукам приберут, – хрустя огурчиком, согласился Оглоблин.
– Именно потому самоедские переселения и составляют предмет особой заботливости со стороны губернатора. Завтра отправим эту партию, а потом господин Энгельгард собирается, захватив остальных переселяющихся, отплыть на Новую Землю с доктором и фотографом, сотней собак и новыми колонистами самолично. Тут следует учесть, что времени у нас немного – сообщение с Новой Землей бывает только летом, всего три месяца в году. И в прошлое лето губернатор так же, как и теперь, отправил самоедам в их новое отечество все необходимое, в том числе порох и свинец, рыболовные снасти и целый трюм собак, которых мы всем обчеством ловили на архангельских улицах.
– А кабачков-то отчего у вас нет? – чокаясь и пропуская очередную кружку водки, не удержался от вопроса журналист.
Урядник выпил, всхлипнул, занюхав рукавом, и, прослезившись, ответил:
– Никак невозможно в этих краях. Власти строго обращают внимание, чтобы аборигенам пароходами не доставлялась водка, до которой они так падки. Прежде самоеды добываемых ими промысловых зверей – медведей, песцов, лисиц – продавали за бесценок или просто отдавали за норвежский ром. Теперь это не так. Прежде шкуры медведя сдавали за четырнадцать рублей, теперь благодаря устроенным правительством аукционам шкуры идут по восемьдесят шесть рублей штука. Самоеды – прекрасные стрелки, бьющие верной рукой из самых простых ружей белых медведей и разную дичь без промаха. Теперь у большинства из них в сберегательной кассе по сто рублей и даже больше, и было бы еще, если б их не съедала страсть к водке.
Бутылка на столе опустела. Опустела и кружка фельетонистки. Чем больше слушала Александра урядника, рассматривая сквозь распахнутое окно освещенные костром плоские лица маленьких раскосых людей, тем сильнее разгоралось в ней желание проникнуть на Новую Землю и на себе испытать, что это такое – жизнь на настоящем Севере.
Она обернулась к уряднику и твердо произнесла:
– Аминпадист Саватьевич, а нельзя ли и мне отправиться с вами на Новую Землю? Как человеку пишущему мне эта тема невероятно интересна.
Тот строго посмотрел на девушку и проговорил:
– И что же, Александра Николаевна, вот так вот возьмете и поедете? Без согласия начальства?
– Я сама за себя отвечаю и сама себе командир.
– А что же ваш товарищ? Отпустит вас одну?
Урядник обернулся к Оглоблину и укоризненно посмотрел на заснувшего журналиста.
– Я не нуждаюсь в сопровождающих, – сухо откликнулась Саша.
– Ну что же, раз вы так решили, не вижу причин отказать. Завтра утром отплываем. За вещами в гостиницу станете заезжать?
– У меня небольшой саквояж, я утром его заберу.
– Добро, я распоряжусь насчет лошадей. Имейте в виду, Александра Николаевна, отплываем рано, в пять утра, так что подниму вас еще раньше.
Урядник встал из-за стола и, обернувшись к двери, выкрикнул:
– Прасковья!
Точно из-под земли выросла давешняя баба в платке.
– Уложи барина прямо тут, на скамье. А барышню проводи на печь.
Баба молча поклонилась и снова исчезла, и появилась через секунду с суконной подстилкой, которой и прикрыла откинувшегося на лавке Оглоблина. Забравшись на печь и засыпая на теплых вонючих шкурах, Александра думала о том, как удивится Тусик, когда, проснувшись, узнает, что неугомонная фельетонистка Саша Ромейко отправилась на Новую Землю.

Москва, наши дни
Дома друзья пили чай с капустным пирогом и вводили Веру Донатовну в курс дела. Старушка реагировала своеобразно. Насупилась и пеняла:
– С Соней все понятно, она витает в облаках, но вы-то, мужчины? Куда смотрели?
– Делами своими занимались, – сухо отозвался Вик. – Я не могу все время Соню за ручку водить.
– Не можешь, Витюша? Ну вот, теперь расхлебывай. А вы, Борис Георгиевич, тоже хороши! Отпустили девчонку шататься по Москве! Я говорила, что нечего ей одной гулять. Сидела бы дома, здоровее была. Что вам в театре сказали? Думают, будто убить мог Шестикрылый?
– Шестикрылый – это художник такой, стены по трафарету расписывает, – из благих намерений пояснил следователь Цой.
Вера Донатовна взглянула на Виктора так, что у того слова замерзли в горле, и важно сообщила:
– Ты, Витюша, всерьез полагаешь, будто я не знаю, кто такой Шестикрылый? Я, слава богу, заслуженный работник культуры.
– Но Боря ничего про Шестикрылого не знал…
– Что Борис Георгиевич не знал – оно понятно. Шестикрылый не входит в сферу его интересов. А я не могу не знать. Я видела все его работы и всегда говорила, что Шестикрылый вторичен, – вдруг безо всякого перехода заявила она. И не без гордости продолжила: – Мой отец, Донат Ветров, в свое время много ездил по миру. Его постоянно приглашали на всевозможные кинофестивали, премьерные показы и избирали в члены самых разных жюри. Папа много снимал в этих поездках и как-то году в семьдесят пятом, вернувшись из Франции, привез несколько пленок, посвященных одному уличному художнику. Отец даже смонтировал документальный фильм, но никто, конечно, фильм не пропустил. Как можно показать советским зрителям сбесившегося с жиру буржуазного элемента, разгуливающего с трафаретом и баллончиком красок в руках и поганящего стены Парижа?
– В самом деле? – изумился Цой. – Еще в семьдесят пятом году парижский художник делал граффити по трафарету?
– Под рисунками художник ставит подпись – Блек ле Ра. А в миру он прозывается Ксавье Пру. Так-то, дорогие мои.
– Этот фильм сохранился? – Карлинский заинтересованно подался вперед.
– Полагаю, что так.
– Мы просто обязаны его посмотреть.
– Пойдемте в архив, должен быть там.
Все трое спустились в подвал Дома творчества, и, включив свет, Вера Донатовна принялась всматриваться в надписи на плотно расставленных на полках коробках с бобинами пленки. У Вика больно сжалось сердце – он вспомнил, как Соня любовно пересмотрела все сваленные на полу пленки, рассортировав, разложив по коробками и практически из праха восстановив богатейший архив Доната Ветрова. Вспомнил, с каким азартом она рассказывала об уникальных завершенных фильмах, о фильмах, не смонтированных до конца, и о фрагментах пленки, так и не вошедших ни в одно кинематографическое произведение.
– Вот ведь Сонька умница, какой объем работы проделала, – рассматривая полки с пленками, одобрительно заметил Карлинский.
– У меня бы руки так и не дошли, – согласилась Вера Донатовна.
Остановившись перед средним стеллажом, старушка привстала на цыпочки и вытащила одну из коробок.
– А вот и фильм, – сообщила она, раскрывая коробку, вынимая бобину и устанавливая на раритетный кинопроектор.
Установив, включила аппарат и погасила свет. Затрещала старая пленка, по экрану на стене побежали титры, сменившиеся панорамой Парижа. Эйфелева башня, Нотр-Дам, Сакре-Кер и другие милые сердцу туриста достопримечательности быстро закончились, и замелькали на удивление четко и ровно нанесенные краской на стены ростовые фигуры космонавтов и полицейских, горничных и детей. И на всех картинах присутствовали крысы. Маленькие зверьки, в одиночку или группами, были совсем как живые. На одной картине крысы даже создали целый город. Камера отъехала назад, захватив стоящего на фоне стены кудрявого юношу в очках. Юноша застенчиво улыбнулся и махнул рукой. Голос за кадром по-русски произнес:
– Все эти прекрасные картины, так украшающие Париж, создал художник по имени Ксавье Пру. Ксавье не похож на тех, кто пишет граффити, – парней из неблагополучных районов, регулярно улепетывающих от полиции. Как видите, Ксавье обеспечен, интеллигентен, и на этом, пожалуй, все. Закон он нарушает точно так же, как и другие его коллеги. Ксавье, откуда твой псевдоним?
Вопрос прозвучал сначала по-французски, потом по-русски. Ответы шли в обратном порядке.
– Мой псевдоним происходит от названия детского комикса BlecleRoc, в котором я заменил последнее слово на анаграмму слова art. Получилось rat – по-французски «крыса». Кроме того, первыми моими уличными рисунками были изображения крыс, которых я считаю единственно свободными животными в городе. Крысы распространены по всему миру так же, как и стрит-арт.
– Почему ты вдруг решил, что хочешь расписывать стены?
– Во время поездки в Америку меня поразило граффити в нью-йоркском метро. И, вернувшись в Париж, я попробовал сделать что-то похожее на старом заброшенном доме на Рю де Фермопиллы. Получилось просто ужасно. И вот тогда я вспомнил, что, когда я был ребенком, мы с родителями ездили в городок Падуя под Италией. И там я увидел граффити, сделанные фашистами. Пропагандистские лозунги были написаны на стенах при помощи трафаретов. Я помню, как расспрашивал об этом отца. Лицо Муссолини, нарисованное с помощью трафарета, навсегда осталось у меня в памяти. Так что мой стиль начинался под влиянием странной комбинации американского граффити и фашистской пропаганды. На формирование собственного стиля мне понадобилось десять лет, чтобы добавить свою лепту.
– Твои работы невероятно хороши, и очень жаль, что беспощадное время их уничтожает.
– Ты зришь в самую суть, мой русский друг, – печально согласился француз. – Именно для того, чтобы продлить жизнь моих настенных картин, я выпустил в этом году альбом с фоторепродукциями всех моих работ, которые еще сохранились на стенах Парижа.
– Где его можно купить?
– Нигде. Альбом вышел малым тиражом, я выпускал за свой счет. Издание оказалось довольно дорогим в производстве и стоило мне изрядных денег. Я берегу альбом для друзей. Донат, прими в подарок, мне будет очень приятно, если обо мне узнают и в России.
Художник скинул со спины рюкзак и, расстегнув, вытащил шикарно изданный буклет, на обложке которого красовалась все та же по трафарету нарисованная крыса и стоял автограф Блека ле Ра.
Француз приблизился к камере почти вплотную и протянул издание, по-русски проговорив:
– Спасиба, Данат!
Из-за камеры показалась рука, взявшая подарок. Рука с альбомом скрылась из кадра, но через секунду появилась снова, и оператор с художником обменялись рукопожатиями. По экрану снова замелькали кадры с домами, на которых Блек ле Ра оставил свой след.
Вера Донатовна остановила аппарат, включила свет и сказала:
– Насколько могу судить, когда Блек ле Ра уже вовсю расписывал Париж по своим трафаретам – а родился он, на минуточку, в пятьдесят первом году, – Шестикрылый еще под стол пешком ходил. Если, конечно, уже появился на свет.
– Вера Донатовна, альбом сохранился? Он у вас? – взволнованно осведомился Карлинский, поднимаясь со стула и принимаясь шагать по тесному архиву.
– Ну, Борис Георгиевич, вы сказали! Альбом! – скептически скривилась соседка. – Альбом у отца отобрали на таможне. Папа страшно ругался и даже ездил к министру культуры, требуя вернуть подаренную вещь.
– Как же вернешь, если отобрали на таможне? – простодушно удивился Вик, продолжая сидеть на табурете и с любопытством рассматривать Веру Донатовну.
– В том-то и дело, что там же, на таможне, альбом забрал себе какой-то сотрудник посольства, – раздраженно отмахнулась старушка. – Просто потому, что работал в советском представительстве во Франции, и у его багажа имелась дипломатическая неприкосновенность. Вернувшись из аэропорта, отец так бесился по телефону, что, я думала, министра культуры хватит удар. Министр даже сам позвонил тому дипломату и попросил вернуть альбом, но дипломат от всего открестился. Наврал, что оставил альбом в самолете, или наплел что-то такое же неправдоподобное.
Вера Донатовна вышла из помещения, раздраженно взглянув на мужчин. Вик тут же подорвался со своего места, поспешно выбежав следом за Ветровой. Немного погодя доктор Карлинский тоже вышел в коридор, давая возможность соседке запереть дверь на замок.
– Любопытная история, – задумчиво протянул Борис, поднимаясь из архива вверх по лестнице. Идущий за ним Виктор грустно проговорил:
– Жалко, конечно, что альбом пропал.
И тут же оптимистично добавил:
– Зато сохранился фильм.
– Кинематограф – это что-то удивительное, – подхватила замыкающая шествие Вера Донатовна.
– И Соня так считает, – выдохнул Виктор. И покраснел.
Заперев Дом творчества, вернулись к себе. Вера Донатовна пошла на кухню заваривать чай, а доктор Карлинский, усевшись за стол напротив Виктора, проговорил:
– Ох, Сонька, Сонька! Не везет ей. С самого детства не везет. Представить себе не могу, как ей жилось с моей сестрицей. Представляешь, родная сестра меня стеклом кормила. Я маленький был, она мне говорит – Боренька, хочешь клубничку? Открой ротик. Я открыл, сестричка положила мне в рот елочную игрушку и приказала – жуй! Хорошо, родители были дома, в больницу отвезли. А один раз глаз мне пыталась ложкой вынуть. Хотела посмотреть, что у меня внутри.
– Тебе сколько тогда было?
– Года два, я сам не помню, мне мать рассказывала. Сестра меня на пять лет старше. Была для меня непререкаемым авторитетом. Мы с ней кошек резали. Сестра говорила – исключительно в научных целях. Так что, сам понимаешь, пожив с такой сестричкой, я мог стать либо психопатом, либо психиатром. Соне хуже пришлось. За меня хоть родители могли заступиться, а Сонька была с ней один на один.
– А как же Сонин отец?
– Мишка-то Кораблин? Он хороший мужик, военспец, весь в работе. Мотался по командировкам, к нему нет вопросов. В это время моя сестрица творила что хотела. Ее любовников в их доме перебывал табун. Соня молчала, отцу не рассказывала. Матери боялась. А однажды взяла и все вывалила как есть. Это для Михаила был триггер. Спусковой крючок. Он усадил мою сестрицу в машину и повез на дачу. До дачи они не доехали – разбились. Как понимаешь, не случайно. После этого у Сони начались проблемы со здоровьем. Я ведь о ней неожиданно узнал. От Игорька Залесского. Приятеля моего, декана института криминальной психиатрии. Да ты его знаешь, он к нам заходил.
– Да, помню Залесского.
– И вот представь себе, Витюш, зовет меня Игорек к себе на свадьбу, говорит, что невеста – психиатр из Питера. Некая Лада Белоцерковская. Стали о Ладе говорить, и выяснилось, что есть у нее пациентка – девица Кораблина. Я удивился. Какая, говорю, Кораблина? Случайно, не Софья Михайловна? Так это, говорю, моя племянница. Везите ее ко мне. Кто лучше близкого родственника присмотрит за страждущим? Так и встретились мы с Сонькой. Ведь ты пойми, Витюш, у Сони, кроме нас с тобой, вообще нет никого. И если мы в беде ее оставим, девчонка окончательно свихнется.
Виктор вспомнил застенчивую улыбку на бледных губах, смущенный, как будто бы искоса, взгляд, мягкие Сонины волосы, мешающие целоваться, и тихо проговорил:
– Не волнуйся, Борь, я за нее горой. Ты знаешь.
– Спасибо, Вить, – сорвавшимся голосом выдохнул Карлинский. И, помолчав, сдавленно добавил: – Помни, Витюш, я очень на тебя рассчитываю.
– А ведь Лада Белоцерковская не так проста, – вдруг обронил Виктор. – Мне Соня рассказывала, что Лада Валерьевна предупреждала ее насчет тебя.
– В смысле – предупреждала? – насторожился Карлинский.
– Уверяла, что неспроста ты под своим крылом нас всех собираешь. Видится Ладе в этом какой-то подвох.
– А ты что об этом думаешь? – В голосе Бориса звучала тревога.
– Да ерунда какая-то, – ободряюще улыбнулся следователь Цой. – Зачем тебе?
– Вот-вот. Все это ее смешные фантазии, – потрепал приятеля по плечу Борис. – Мало ли что взбредет в голову взбалмошной дамочке. Неудачница, никчемный специалист, скучает в тени авторитетного мужа. Игорь Залесский – признанный авторитет, куда ей с ним тягаться. Вот и придумывает от скуки всякую чушь.
Вошла Вера Донатовна, внесла горячий чайник. Засиживаться не стали и, выпив по чашке чая, разошлись по своим комнатам. Все находились под впечатлением от последних событий, но больше всего несчастье с Соней потрясло следователя Цоя. И еще Вика до глубины души тронуло, что не он один придумал себе имя, вдохновившись комиксом[3]. Еще и французский художник Блек ле Ра. И у такого славного парня украсть идею? Да Шестикрылый не просто поплатится, он землю станет жрать, вымаливая прощение у француза. А если Шестикрылый и приятеля Сони убил! Не будет ему пощады. Он сам, следователь прокуратуры Виктор Цой, лично проследит, чтобы негодяй понес заслуженное наказание. Пусть даже придется умереть, он готов. Только бы не дать преступнику уйти от возмездия. Всю ночь Вик ворочался без сна и заснул только под утро с тревожной мыслью о гнусности человеческой сути.
И проснулся с той же мыслью. Кто-то убил Пашу Петрова, а Соня отдувается. И он, следователь Цой, не оставит этого так. Он во что бы то ни стало изобличит и накажет негодяя. Вик вылез из теплой постели и вышел в коридор. В ванной плескался Борис, Вера Донатовна гремела на кухне посудой. По квартире полз дивный аромат свежеиспеченных ванильных сырников. Старушка уже давно не готовила исключительно яйца вкрутую, разнообразя утренний рацион деликатесами. На столе перед мужчинами появлялись то запеканки, то оладушки. Но вот кофе остался прежним – цветом, вкусом и консистенцией напоминающим нефть. Ели в молчании. И только по окончании трапезы Карлинский заговорил.
– Ты сейчас куда? – сыто отдуваясь, откидываясь на спинку стула и закуривая, взглянул он на Вика.
– Я, Борь, в прокуратуру.
– А я в больницу на улицу Восьмого Марта. Хочу расспросить сторожа, о котором вчера упоминал.
– Дело хорошее, – налегая на сырники, согласился Вик. И, жуя, попросил: – Держи меня в курсе.
– Может, поедешь со мной? – деловито предложил Борис. – Твое присутствие придаст визиту вес.
– Можно и поехать, раз я такой весомый.
Доктор Карлинский поднялся из-за стола и слегка поклонился сидевшей напротив старушке:














