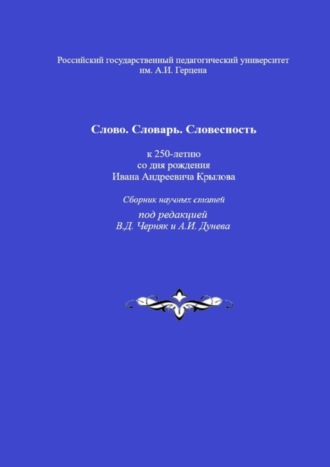
Полная версия
Слово. Словарь. Словесность: к 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. Сборник научных статей
Связь между баснями Крылова, прежде всего со «Стрекозой и Муравьем», и «Жизнью насекомых» Пелевина подчеркивалась неоднократно, в том числе самим автором романа:
…стало видно, что это толстый рыжий муравей в морской форме; на его бескозырке золотыми буквами было выведено «Iван Крилов», а на груди блестел такой огород орденских планок, какой можно вырастить, только унавозив нагрудное сукно долгой и бессмысленной жизнью. <…> На экране телевизора в лучах нескольких прожекторов пританцовывала стрекоза. Налетел холодный ветер, и муравей, подняв ворот бушлата, наклонился вперед. Стрекоза несколько раз подпрыгнула, расправила красивые длинные крылья и запела:
Только никому
Я не дам ответа,
Тихо лишь тебе я прошепчу…
Рыжий затылок муравья, по которому хлестали болтающиеся на ветру черные ленточки с выцветшими якорями, стал быстро наливаться темной кровью. <…>
…Завтра улечу
В солнечное лето,
Буду делать все, что захочу.
Пародийная интертекстуальность романа не исчерпывается Крыловым. Б. Парамонов привел «представительный пример писательской манеры Пелевина»: «„Майор Формиков. Весна тревоги нашей. Репортаж с учений магаданской флотилии десантных ледоколов на кислородной подушке“. Такие фразы – зерна, атомы пелевинской прозы, принцип ее строения. В данной еще то хорошо, и не каждый догадается, что Формиков – от formica, муравей по-латыни; а фраза эта – из „Жизни насекомых“. Оттуда же: „Артур с Арнольдом превратились в небольших комаров характерного цвета „мне избы серые твои“, когда-то доводившего до слез Александра Блока“…» [Парамонов 2000].
Пелевин размывает крыловскую оппозицию стрекозы и муравья (все обратимо, все относительно). Его кредо – пародийный лозунг «Муравей муравью – жук, сверчок и стрекоза». При этом «альтернативы даны не в линейной последовательности развернутого до конца сначала одного, потом второго сюжета, а, так сказать, на высокой частоте переменного тока: каждый кадр сменяется альтернативным; маркер для опознания – та или иная одежда героя или прическа героини. Так сделана „Жизнь насекомых“, и в этом обаяние вещи» [Парамонов 2000].
Петрушевская не так явно, как Пелевин, апеллирует к баснописцу. Но, следуя в фарватере Крылова, она также демонстрирует постмодернистскую рефлексию на форму и содержание его басен, на литературоцентризм отечественной культуры, одним из столпов которой является Крылов, но, подчеркнем, на культуру, пропущенную сквозь массовое сознание, на поп-культуру в том числе.
У Крылова нет имен, фамилий, кличек зооморфных персонажей. Только в более поздних изданиях в их наименованиях стали использоваться прописные буквымикс имен действующих лиц: В парных наименованиях присутствуют зародыши фабулы: У Пелевина, в отличие от Петрушевской, имена собственные людей-насекомыхфункционируют отдельно от их идентификаторов в качестве человека, муравья, мотылька и т. д. . Петрушевская создает аномальный Евтушенко, блоха дядя Степа, Нина Заречная и др. клоп Мстислав, таракан Максимка, моль Нина, паук Афанасий, пчела Лёля, оса Фенечка. (Дима, Митя, Марина и др.)
Стилю Петрушевской присущи лакунарность и избыточность. Муравьи (и не только) множатся уже в списке действующих лиц:Фрагменты их жизни представлены в разных сказках-клипах. Здесь невозможен крыловский «какой-то муравей» (но и у Крылова не все муравьи одинаковы: есть и труженик, и хвастун). муравей Галина Мурадовна, карликовый муравей Хна, карликовый муравей Сенна, гигантский муравей Зоя Мурадовна, муравей пастух Ленька.
Персонажи Пелевина и Петрушевской, как и персонажи басен Крылова, не ходячие аллегории, не люди под видом насекомых (а также птиц, зверей и т.д.). На первых иллюстрациях басен действующие лица изображались в русских национальных костюмах, что, кстати, сегодня не представляется удачным. (Конечно, у Пелевина и Петрушевской появляются американский комар Сэм, исландская селедка Хильда и другие «иностранцы». )
Басни Крылова, как правило, имеют четкую границу между монологической (авторской) и диалогической (персонажной) речью. В рассматриваемых текстах граница между диалогом или полилогом и обрамляющим их монологическим контекстом может быть стерта. Так, в басне «Пчела и Муха» монологический контекст лаконичен, отделен от диалога действующих лиц, а в сказке о пчеле и мухе («Конец праздника») он доминирует, различные формы чужой речи буквально тонут в нем, как тонет в варенье муха Домна Ивановна.
Если у Крылова автор демонстрирует свою позицию, используя местоимение то в романе Пелевина автор традиционно скрыт под маской, а в сказках Петрушевской его ироничная позиция обнаруживается в апелляции к адресату ( и т.п.). Пелевин и Петрушевская играют масштабами изображения, варьируя функционально-композиционные типы речи. Но у Пелевина ни один персонаж, использующий сентенционный тип речи (СТР), не является alter-ego автора. СТР Петрушевской, в отличие от Крылова, это не авторская сентенция, «мораль» передоверяется какому-нибудь одиозному персонажу. мы, согласитесь
Басенный «нравственный кодекс» [Вайль, Генис 2016: 30—36] Крылова предлагает альтернативу, а не сопоставление фигурантов: Муха и Пчела (она же Муравей), Стрекоза и Муравей и т. п. В нем отсутствует фольклорный этический релятивизм, но в баснях создается «столкновение серьезного морального задания и как бы неумелого, неуместного в своей живописности и натуральности его исполнения» [цит. по: Крылов 1999: 481].
Современные авторы ценят не альтернативность, а «многослойность демократического мышления» [Вайль, Генис 2016: 30—36]. В сказках Петрушевской нет воплощенной добродетели и воплощенного порока: как мухи, так и пчелы не брезгуют помойкой. Пелевин демонстрирует телесную и этическую обратимость стрекозы и муравья: в конце романа за стрекозой, поющей и пляшущей (по завету Крылова), наблюдает в телевизоре муравей, трудовая жизнь которого оказывается «долгой и бессмысленной». Они наследуют басенный «нравственный кодекс» Крылова, актуализируя амбивалентность его морали. Как и у Крылова, их «живой рассказ неизбежно выходит за границы плоского поучения» [цит. по: Крылов 1999: 481] Развитие басенной традиции обнаруживается в текстовой фактуре их произведений, в образах автора и персонажей. .
Литература
Родная речь. Уроки изящной словесности. М., 2016. С. 30—36. Вайль П., Генис А.
. Басни. Комедии. Повесть. М., 1999. Крылов И. А
Пелевин муравьиный лев. URL: archive. svoboda. org/programs/RQ/2000/RQ.31.asp Парамонов Б. —
Дидковская В. Г.
Фразеологические сочетания в журнальной прозе И. А. Крылова
В развитии русской литературы и русского литературного языка к. XVIII – н. XIX в. важная роль принадлежит журнальной прозе. А. С. Пушкин в филологических статьях и критических заметках писал, что она призвана восполнить отсутствие «книжной» литературы на русском языке [Пушкин 1962: 257, примечание автора]. Он был уверен, что «метафизический» язык для изъяснения понятий нравственных, политических и философских по-русски будет создаваться в журналах так же, как обороты «для изъяснения понятий самых обыкновенных» русские вынуждены создавать в простой переписке [там же: 259]. Роль журнальной прозы в этом процессе в немалой степени была обусловлена тем, что ее язык не имел опоры в традиционных литературных жанрах и тем более не был связан с нормами ломоносовских стилей: он создавался под пером авторов и определялся их языковыми предпочтениями и талантом.
Язык журналов пушкинского времени, несомненно, имел своим предшественником публикации сатирических журналов к. XVIII в.: «Необходимо отметить и исключительную гибкость, легкость и чистоту языка сатирических журналов <…> Между тем, как этап в создании русского литературного языка, лучшие образцы художественной продукции этих журналов ближе стоят к языку XIX в., чем проза и, тем более, стихи последней четверти XVIII в.» [Берков 1952: 306]. Проза этих журналов была прозой особых жанров – жанров-стилизаций, использующих формы, в том числе языковые, других типов текстов: А. И. Горшков называет в их числе сатирические ведомости, сатирические рецепты, сатирический словарь, отмечая, что главной литературной формой сатирических журналов было письмо [Горшков 1982: 54]. Эпистолярный слог, ориентированный на обыкновенные выражения, позволял автору использовать широкий диапазон языковых средств – от книжных до разговорных и просторечных, следуя задачам сатирического изображения действительности и нравственного воспитания читателей.
Ежемесячный сатирический журнал И. А. Крылова «Почта духов» выходил в 1789 г. в течение восьми месяцев. Его литературные источники связаны с русскими журналами 1769—1774 гг. «Трутень», «Живописец», «Кошелек», даже название его перекликается с «Адской почтой» Ф. Эмина [Орлов 1992]. Кроме того, по мнению некоторых исследователей, в журнале Крылова представлен материал, почерпнутый у французского просветителя д'Аржана. М. В. Разумовская установила, что 23 письма переведены из романов этого автора «Кабалистические письма» и «Еврейские письма» [Разумовская 1978: 103]. В отличие от своих предшественников Крылов использовал существовавшую в европейской литературе форму журнала одного автора. Его журнал «Почта духов»должен был читаться как единое произведение, «собрание писем» из переписки арабского волшебника Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, содержанием которой было осуждение и высмеивание разных человеческих пороков и общественной несправедливости.
Характеризуя язык «Почты духов», исследователи отмечают в нем отсутствие ярких экспрессивно-стилистических и социально-окрашенных единиц, свойственных сатирической прозе Н. И. Новикова и Д. И. Фонвизина: «…писатель сознательно стремится выработать язык ровный, единообразный, гармоничный» [Горшков 1982: 141]. Однако ровность и единообразие языка не означает его однообразия. Каждый из волшебных «адресантов»высказывается по разным и вполне земным вопросам: о модных нарядах, о развращенности нравов щеголей и щеголих, о карточной игре, о состоянии театров, о литературе и литераторах, о неправедных судьях, о месте человека «среди прочих творений», об обязанностях государей и министров, о достоинствах истинно честного человека, о способе сделаться мудрым и добродетельным и др. Соответственно меняется и диапазон языковых средств, использованных в текстах разнотемных писем, причем Крылов почти не прибегает к стилизации, но использует прием пересказа: в письмах его сильфов и гномов приводятся рассказы и разговоры их земных знакомых. Как представляется, в этом раннем прозаическом произведении И. А. Крылова начинает формироваться соотношение автор – повествователь – рассказчик, которое будет развиваться в прозе XIX в.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



