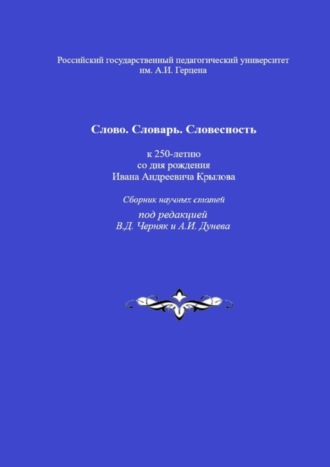
Полная версия
Слово. Словарь. Словесность: к 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. Сборник научных статей
Проблема выбора падежа после предлога активно обсуждалась в 70—80 гг. прошлого века. Наиболее полную картину существующих на тот момент точек зрения представил В. А. Ицкович [Ицкович 1982: 98—113], который вслед за А. М. Пешковским [Пешковский (1914—1928) 2001: 320—321] и В. В. Виноградовым [Виноградов (1947) 2001: 572—573], сделал вывод о том, что предлог вследствие расширения его семантики и появления (или усиления) параллельных предложно-падежных средств со специализированной (более узкой) семантикой превращается в «пустой» предлог, «в формальный показатель зависимости одного слова от другого» [Ицкович 1983: 113]. Результаты обсуждения нашли отражение в ряде словарей [Трудности словоупотребления… 1973: 327—328; Граудина и др. 1976: 48—49; Розенталь, Теленкова 1981: 121, 419; Золотова 1988: 138—153; 338—339]. по по
С 90-х гг. интерес теоретической лингвистики к этим формам угасает, проблема переходит в сферу лексикографии. Словари используют понятия старшей и младшей (новой) нормы, пометы или Так, в Словаре под ред. С. А. Кузнецова (1998) местоименные предложно-падежные формы «ПО + Предл. п.» обозначены как разговорные. При этом иллюстративный материал не цитатный, в основном типовые общепонятные фразы (речения), ориентированные на носителей русского языка последней трети XX в.; из цитатного материала – только пословицы. См. также в Словаре С. И. Ожегова – это «просторечные сочетания». устар. разг. по нем, по них
Корпусная лингвистика XXI в., наблюдая грамматические явления в диахронии и синхронии, предлагает два решения рассматриваемой проблемы: (1) отнести формы Предл. п. к сфере диахронии [Муравенко 2006; 2008]; (2) интерпретировать формы в синхронии как вариантные формы одного падежа – дательного [Кустова 2016]. Е. В. Муравенко предлагает понятие «синтаксического архаизма»и обосновывает необходимость словаря «изменения управления в русском языке» [Муравенко 2006; 2008]. Термин «синтаксический архаизм» используется ею и применительно к формам «ПО + Предл. п.», например, при глаголе . Г. И. Кустова говорит о наличии у личных местоимений «усеченной формы» Дат. п. по нем, по ком скучать
Потенциально возможно и третье решение, связанное с понятием «нейтрализации» из теории позиционной морфологии по М. В. Панову [Панов 1999]. Третье решение предполагает включение в обсуждение и местоимений 1-го и 2-го лица единственного числа. Включая в обсуждение местоимения , мы используем ту же логику, что и в Словаре В. И. Даля, где в статье предлога в п. в) «даются и синкретичные формы: (после работы), . Понятно, что современные грамматики и словари квалифицируют эти формы как Дат. п. мне, тебе по с предл. пад.» по работе сын по матери вышел; тужи по молодости
Но если мы обратимся к текстам И. А. Крылова, то поймем, что ситуация сложнее, что для определения падежа необходимо учитывать одновременно несколько факторов, в том числе разграничения модуса и диктума в семантике местоименной синтаксемы и ее синтаксические функции.
Особенность местоименных синтаксем с предлогом состоит в том, что определение падежа при неразличении окончаний Дат. п. и Предл. п. зависит не только от синтаксической функции, но и разряда и лица местоимения. Считается, что местоимения 1-го и 2-го лица ед. ч. (участники речевого акта) в соединении с предлогом стоят в форме Дат. п. Для остальных личных местоимений в современном русском языке возможен выбор, в большей или меньшей степени (по разным словарям и справочникам) регламентируемый. предл. п. местоимений 1-го и 2-го лица обнаруживается в том случае, если эти формы выражают «значение времени относительно другого времени»: (Акты Петра I); (Тредиаковский) [Ломтев 1956: 353—354]. по по И определяем и объявляем помянутого престола наследником другаго сына нашего, Петра по нас О, вы, идущие потомки по нас
Если Т. П. Ломтев иллюстрирует это значение формами 1-го лица множ. ч., то Л. А. Булаховский рассматривает пример из басни И. А. Крылова «Воспитание льва»: [Булаховский 1948: 370]. В этом примере занимает внутрисинтаксическую присубстантивную позицию и является средством выражения диктальной информации. Но вот другие примеры: (Крестьянин и Змея); (Собака и Лошадь); (Паук и Пчела). Любезный сын, наследник ты один! по мне по мне И потому с тобой мне не ужиться, / Что лучшая Змея, / ни к черту не годится По мне хоть бы тебя совсем с двора согнали. / Велика вещь возить или пахать! По мне таланты те негодны, /В которых Свету пользы нет, /Хоть иногда им и дивится Свет По мне
В этих примерах выражает модус мнения и речи, т. е. занимает внешне синтаксическую позицию (вводную, парентетическую). по мне
Разграничение вводной и внутрисинтаксической позиций связано со степенью присутствия модуса в семантике словоформы; в некоторых случаях от этого будет зависеть и определение падежа. Так, во вводной позиции (1) относят к Дат. п. (или к «наречному выражению»), а во внутрисинтаксической позиции либо Дат. п., либо к Предл. п. (2) в зависимости от того, каким членом предложения является словоформа. Примеры: (1) ; (2) (Крылов). Первый пример – бесспорно вводная позиция и Дат. п. (); второй —собственно диктальная – Предл. п. (во временном значении). Но если допустить, что у Льва был не один львенок-сын, то третий пример можно прочесть и по первому варианту: «я считаю, что только ты мой наследник). В этом случае окажется формой Дат. п. по мне по мне А я скажу: уж лучше пей, / Да дело разумей по мне Любезный сын, наследник ты один! по мне я считаю.., по моему мнению мой наследник, наследник после меня; по мне по мне
В примере из «Почты духов» мы видим форму Предл. п.: (т.е. первым после тебя, Плутона, и меня, Прозерпины). итак, душа моя, когда ты хочешь видеть ад в лучшем состоянии, то уполномочь его и объяви и первым начальником ада… по себе по мне
Таким образом, модусная семантика синтаксемы соотносится с Дат. п., а диктальная (восходящая к значению относительного времени) – с Предл. п. Дат. п. в современном русском языке гораздо активнее взаимодействует с предлогом . В Словаре Г. А. Золотовой указаны следующие синтаксемы (примеры дадим из басен И. А. Крылова): транзитив (), темпоратив, дистрибутив (),рубрикатив, коррелятив (), критерий сравнения (), каузатив 1 (ненамеренный) (), каузатив 2 (намеренный) (), основание-соответствие (—), с семантикой именования (); объектная синтаксема (), каузативно-признаковая (), объектно-каузативная [Золотова 1988: 139—153]. Местоименные синтаксемы появляются в примерах на объектно-каузативную синтаксему (– Блок; Луговской). Подобранные нами примеры показывают, что в текстах И. А. Крылова мы находим почти весь репертуар диктальных синтаксем, образованных предложно-падежной формой ПО+Дат. п. Исключение составляет рубрикативная синтаксема, которая является средством, как правило, делового стиля. Синтаксемы с модусной семантикой в словарной статье не представлены, что и объясняет отсутствие примеров с местоимением 1-го лица. по мне по хрупкому скрыпят обозы По снегу К ним за день ходит по сту раз Иль не было вблизи ему сесть; И дом бы всем пришел ему по чину по нраву Посмотрим, где твои права, где сила, твердость, ты в тщеславии своем Всей твари, даже Льва, быть хвалишься царем? По коим Царь терпит все Подпали мы под сильный гнев богов по милости своей; по множеству грехов Я Соловьем в лесу здесь названа по твоему веленью , что в сказанную ночь По справке ж явствует Овца от кур не отлучалась прочь; День кончится, и, , Ему всегда чего-нибудь недостает по его расчету Жил в городе богач, по имени Мирон без устали колотит По платью барскому Притом же об уме мы сами часто судим иль По платью по бороде я ужасно скучаю ; томится ветер по тебе по тебе И я , как ребенок, тоскую – по тебе
Местоименные синтаксемы 3-го лица, которые относятся к сфере диктума, представлены формами Предл. п. См. примеры из басен Крылова: (1) (2) (3) (4) ; (5) А (6) А . Твердит красавица, – ли я невеста? по них Лжец ни один у нас пройти не смеет; по нем Тогда-то он узнал, что добычь не ; по нем Тут силой всей народ тушить Пожар принялся Наутро дым один и смрад остался. по нем на него со всех сторон Рогатины, и ружья, и собаки: Так драка не . по нем как умрет, о выть наймут нас, верно, снова по нем
Таким образом, анализ примеров из текстов И. А. Крылова, написанных в то время, когда два падежа конкурировали между «на равных», показывает, что местоимения 1-го лица с предлогом ПО () могут соединять диктальную и модусную семантику, а местоимения 3-го лица в этой форме диктальны, для них не существует вводной позиции. Для местоимений 1-го лица в синтаксеме определение падежа зависит от семантики синтаксемы (модусной и/или диктальной) и от позиции синтаксемы. Репертуар синтаксем ПО+Дат. п., существующих в современном русском языке, был сформирован уже во времена И. А. Крылова, и И. А. Крылов использовал этот репертуар в полном объеме. по мне по мне
Литература
Русский литературный язык первой половины XIX века. Т. II. Киев, 1948. Булаховский Л. А.
Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 2001. Виноградов В. В.
Х. Русская грамматика Александра Востокова: по начертанию его же сокращенной Грамматики полнее изложенная. СПб, 1831. Востоков А.
Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П.
Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988. Золотова Г. А.
А. Очерки синтаксической нормы. М., 1982. Ицкович В.
Участки грамматической нестабильности в современном языке (доклад, прочитанный на заседании Ученого совета ИРЯ РАН 24.03.2016, текст статьи в печати). Кустова Г. И.
Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956. Ломтев Т. П.
О синтаксических архаизмах // Изменения в языке и коммуникации: XXI век. М., 2006. С. 209—224. МуравенкоЕ. В.
О словаре изменения управления в русском языке // Труды Международной конференции «Диалог 2008». М., 2008. С.394—399. Муравенко Е. В.
Позиционная морфология русского языка. М., 1999. Панов М. В.
Словарь трудностей русского языка. Изд. 2-е. М., 1981. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.
Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. III. М., 1939.
Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник. Л., 1973
Избранные труды в 2-х томах. Т. I. М., 1970. Чернышев В. И.
Пиотровская Л. А.
Об эмотивности текстов И. А. Крылова
Басни Ивана Андреевича Крылова предоставляют богатейший языковой материал для изучения механизмов формирования эмотивности в тексте.
В начале XX в. Ш. Балли подчеркнул необходимость различать две цели субъекта речи: выражение субъективного мира говорящего (чувств, настроения) и использование языковых средств для воздействия на адресата [Балли 1961: 128—129]. Ф. Данеш назвал это терминами «эмоциональный» и «эмотивный»: «эмоциональный» – «имеющий отношение к выражению эмоций самого субъекта речи», а «эмотивный» – «имеющий отношение к намерению говорящего оказать воздействие на адресата» [Daneš 1982: 93—94].
Обобщение лингвистических и психологических работ позволило нам предложить различать два вида эмоциональной оценки – первичную («эмоциональное состояние») и вторичную («эмоциональное отношение»): первичная оценка связана с эмоциями лишь причинными отношениями, а вторичная – и причинными, и целевыми. Из этого следует, что всякая эмоция основана на первичной оценке объекта, но не всякая эмоция выполняет функцию оценки. Проиллюстрируем сказанное примерами из басен И. А. Крылова.
В высказывании выражается и первичная оценка, возмущение, и вторичная – намерение вызвать у Юпитера чувство стыда. Как можно это снесть?
В другом высказывании из той же басни выражена только первичная оценка – изумление: Чтó то за зверь?
В отечественной лингвистике, немногим позже Ф. Данеша (и независимо от него), те же термины разграничил В. И. Шаховский, подчеркнув, однако, необходимость различать семантику языковых средств и психическое состояние субъекта речи: «– имманентно присущее языку семантическое свойство выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики человека» [Шаховский 2009: 24; курсив автора. – ]. Эмотивность Л. П.
В. Матезиус еще в середине ХХ в. предложил психологический подход, подчеркнув различие между спонтанными, подавляемыми и намеренно выражаемыми эмоциями [Mathesius 1947: 227].
После работ Ш. Балли, разграничившего функцию идентификации и функцию экспрессивную [Балли 1961: 128; 129], в лингвистике стали различать описание и выражение эмоций. Нами было предложено добавить к этим двум понятиям и третье – «отражение эмоций» [Piotrovskaya 2009]. Термины «выражение эмоций» и «отражение эмоций» коррелируют с понятиями намеренно выражаемых и спонтанных эмоций, по В. Матезиусу. При описании эмоции становятся объектом рефлексивной деятельности человека, поскольку говорящий смотрит на себя как бы со стороны; результатом описания эмоций является использование слов, называющих эмоции, например:
При выражении эмоций субъект речи непосредственно переживает их, выбирает адекватные эмотивные языковые средства с целью сделать достоянием сознания адресата свою эмоциональную реакцию. При этом выражение эмоций может быть как в статусе доминирующего компонента значения, так и коннотативного. Во фрагменте (4) коннотативно выражено удивление с оттенком зависти, а в (5) – осуждение.
Соотнесем определения, предложенные М. Матезиусом, Ф. Данешом и В. И. Шаховским, друг с другом, несмотря на разные принципы, положенные в их основу.
«Эмотивность», по Ф. Данешу, означает, что субъект речи ставит цель оказать эмоциональное воздействие на адресата. Чтобы это стало возможным, он должен намеренно выражать эмоции (по В. Матезиусу) и использовать языковые средства, в семантике которых закреплен эмотивный компонент значения (по В. И. Шаховскому). При анализе в аспекте «эмоциональности» предметом исследования является эмоциональное состояние говорящего как психическое явление (по В. И. Шаховскому). Если говорящий выражает свои эмоции спонтанно (по В. Матезиусу), у него не может быть намерения оказать эмоциональное воздействие на адресата (по Ф. Данешу). Но на основе анализа вербальных и невербальных средств можно сделать вывод об эмоциях, переживаемых субъектом речи.
В текстах И. А. Крылова представлен широкий набор эмотивных языковых средств, при этом сочетаются разные их типы, что способствует более адекватному вычленению «эмоциональной составляющей» читателем, а также значительно усиливает их эмоциогенное воздействие на адресата.
Почти в каждой басне И. А. Крылов использует «язык описания» эмоций.
Представляется, что доминирование в баснях Крылова лексических средств номинации эмоций не случайно. Органическое единство эмоциональных и интеллектуальных процессов подчеркивали многие отечественные психологи.
Л. С. Выготский считал отрицание единства этих процессов главной методологической ошибкой психологии первой трети ХХ в.: «Кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления» [Выготский 1996: 20]. Ср. и другое его высказывание: «Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее „почему“ в анализе мышления» [Выготский 1996: 357].
Это же положение подчеркивал и другой классик отечественной психологии, Л. С. Рубинштейн: «Сами эмоции представляют собой единство эмоционального и интеллектуального, так же как познавательные процессы образуют единство интеллектуального и эмоционального [Рубинштейн 1989: 141].
Таким образом, активно используя слова, называющие эмоции, переживаемые героями басен, И. А. Крылов погружает читателя в мир переживаний героя, а следовательно, мотивирует мыслительный процесс читателя.
В баснях И. А. Крылова используются разнообразные вербальные средства выражения эмоций, при этом эмотивный компонент не только может быть доминирующим компонентом значения высказывания, как во фрагментах (10) и (11), в которых выражены соответственно досада и опасение, но и иметь статус эмотивной коннотации не слова, а высказывания, как во фрагменте (12), в котором выражено осуждение.
Из всех возможных сочетаний: описание и выражение, описание и отражение, выражение и отражение эмоций – чаще всего И. А. Крылов задействует одновременно «язык описания» и «язык выражения эмоций» (особенно широко – эмотивные синтаксические конструкции). При этом он варьирует порядок их следования (в следующих фрагментах слова, называющие эмоции, подчеркнуты одной линией, а эмотивные синтаксические конструкции, выражающие эмоции, – двойной).
Поскольку эмотивный компонент значения эмотивных высказываний читатель должен определить самостоятельно, используя перед таким высказыванием или после него слова, называющие эмоции, И. А. Крылов помогает читателю адекватно понять доминирующий компонент значения эмотивного высказывания.
В заключение проиллюстрируем сочетание языковых средств, называющих и отражающих эмоции (во фрагменте (15) высказывание, в котором отражается опасение, подчеркнуто двойной линией):
Очевидно, что отражение же эмоций осуществляется спонтанно, кодируется и вербально, и невербально.
Соотнесение трех терминов, «описание эмоций» / «выражение эмоций» / «отражение эмоций», с терминами «эмотивность» и «эмоциональность» предстает в следующем виде: при исследовании текста в аспекте эмотивности объектом анализа могут быть языковые средства как описывающие, так и выражающие эмоции; при оценке же степени эмоциональности человека значимыми будут лишь языковые средства, выражающие и/или отражающие эмоции говорящего, в органическом единстве с невербальными средствами. И тексты И. А. Крылова позволяют анализировать их в разных аспектах.
Литература
Французская стилистика. М. 1961. Балли Ш.
Мышление и речь. М., 1996. Выготский Л. С.
Основы общей психологии: в 2 т. Т. 2. Бытие и сознание. М., 1989. Рубинштейн С. Л.
Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языке. Изд. 3-е. М., 2009. Шаховский В. И.
Intonace v textu (promluvě) // Slovo a slovesnost. 1982. Č. 2. S. 83¾100. Daneš F.
Několikslov o podstatěvěty // Mathesius V. Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947. S. 224¾233. Mathesius V.
Description, Expression and Reflection of Emotions in Language Behaviour // Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data: Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2009. P. 307¾338. Piotrovskaya L.
(1) – Пристал к Юпитеру Осел спесивый мойИ росту стал просить большого. «Помилуй», говорит: «» как можно это снесть? (Осел)(2) – …И стал Осел скотиной превеликой;А сверх того ему такой дан голос дикой,Что мой ушастый ГеркулесПораспугал-было весь лес. «какого роду? Чтó то за зверь? Чай, он зубаст? рогов, чай, нет числа?»(3) – Мартышка тут с и с досады печали О камень так хватила их,. Что только брызги засверкали(Мартышка и очки)(4) И шепчут все друг другу:«Смотрите-ка на удальца;Затеям у него так, право, нет конца: То кувыркнется, То развернется, То весь в комок Он так сберется, Что не видать ни рук, ни ног .Уж мы ль на всё не мастерицы,(Обезьяны) А этого у нас искусства не видать!(5) – …За чтó ж к Ослам ты столько лих,Что им честей нет никаких,(Осел) И об Ослах никто ни слова? (6) (Синица) обнял жителей Нептуновой столицы… Страх (7) … имея рост такой,. (Осел) И в свете показаться стыдно (8) … И и , всё было пополам. радость печаль Не видели они, как время пролетало;(Два голубя) Бывало им, а не бывало. грустно скучно (9) Народ суду такому изумился (Троеженец) И ждал, что Царь велит повесить всех судей…(10) Очки не действуют никак. «!» говорит она: «и тот дурак, Тьфу пропасть Кто слушает людских всех врак:Всё про Очки лишь мне налгали;. А проку нá-волос нет в них»(Мартышка и очки)(11) ! И боже сохрани, как худо (Обезьяны)(12) … За чтó ж к Ослам ты столько лих,Что им честей нет никаких,? (Осел) И об Ослах никто ни слова(13) Толпятся: чуду всяк заранее , дивится Молчит и, на море глаза уставя, ждет;Лишь изредка иной шепнет:» (Синица) « Вот закипит, вот тотчас загорится! (14) Ягненка видит он, на дóбычу стремится;Но, делу дать хотя законный вид и толк,Кричит: « Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом Здесь чистое мутить питье Мое С песком и с илом ?За дерзость такову – Я голову с тебя сорву».«Когда светлейший Волк позволит,Осмелюсь я донесть: что ниже по ручьюОт Светлости его шагов я на сто пью;И гневаться напрасно он изволит:Питья мутить ему никак я не могу».(Волк и ягненок)(15) Мартышка тут с и с досады печали , О камень так хватила их . Что только брызги засверкали(Мартышка и очки)Мартьянова И. А.
Басенная традиция и современная русская литература
В отечественном сознании несомненно присутствует мифологизированный образ доброго дедушки Крылова. Обращение современных отечественных литераторов к его личности и творчеству обнаруживает тенденцию разрушения мифа: Странно подумать, что добрый дедушка Крылов, благодушно взирающий с пьедестала в Летнем саду на игры ребятишек, был некогда бедным и честолюбивым юношей и вел жестокую борьбу за литературное существование, и совершил немало безумств, и принял много горя, прежде чем похоронил свой талант в басне, а судьбу – в анекдоте, прежде чем сам превратился в басенного зверя, в могильный курган обжорства и остроумия.
С. Лурье. О Крылове
[Вайль, Генис 2016: 30—36]Но традиция не умерла, получив развитие в современной литературе. Остановимся на двух книгах: романе В. Пелевина «Жизнь насекомых» (1993 г.) и «Диких животных сказках» (2012 г.) Л. Петрушевской. В «Евангелии от Ивана» П. Вайль и А. Генис вступают в спор о Крылове с Жуковским, Пушкиным, Белинским, подчеркивая оскомину школьного прочтения Крылова, всегда «удобного» и якобы «простого»… . Еще при жизни автора его басни утрачивали злободневность. И если главное в них не политическая актуальность, то становится понятным, почему так быстро канули в Лету «актуальные» басни Д. Бедного и С. Михалкова. Дело не только в изменении «злобы дня», политической конъюнктуры (оставим в скобках вопрос о литературном таланте), причины неудачи кроются в нежелании или неспособности советских баснописцев развивать крыловскую традицию, в консервации басенной формы и содержания, что ведет к деградации жанра.
Пелевин и Петрушевская недвусмысленно отсылают к басням Крылова «Стрекоза и Муравей» и «Муха и Пчела». Последняя восходит к Федру («Муравей и Муха»), одноименным басням Лафонтена и Тредиаковского («Муха и Муравей»)Как видим, трудолюбивые пчела и муравей взаимозаменяемы. То же можно сказать и о «лентяйках», мухе и стрекозе. Б. Парамонов, анализируя роман Пелевина, также заметил, что по-английски стрекоза – драконья муха [Парамонов 2000]. .



