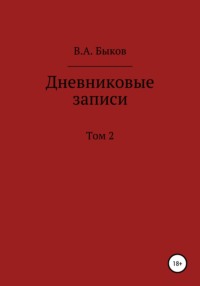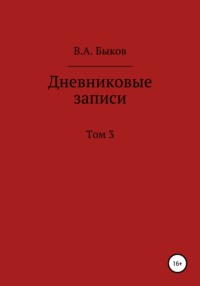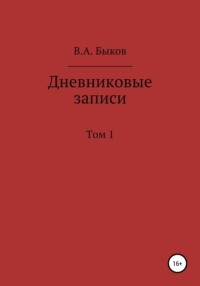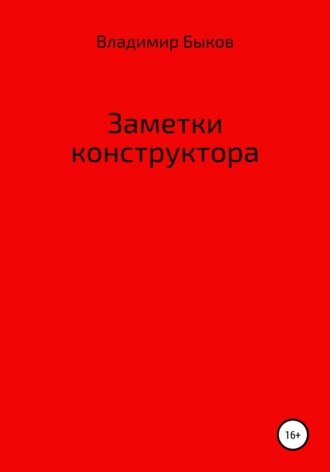 полная версия
полная версияЗаметки конструктора
Вне указанной культуры установление демократического управления чревато колоссальными издержками, которые могут оказаться соизмеримыми с издержками советской власти. Демократия без надлежащей культуры – та же утопия. Это грабеж государства, национализм, массовая преступность, бессмысленная для большинства политическая борьба, неконтролируемое зверское обогащение меньшинства. Подобная демократия выгодна только этому меньшинству. Но она удобна и другой – западной демократии богатых, завоевавших в свое время, в силу природных, исторических и прочих благоприятствующих обстоятельств, место под солнцем и употребивших ее в национал-эгоистических целях своих стран. Заставивших третьи страны жить в нищете среди сверкающих огнями витрин, назойливой рекламы, красивых упаковок и тратиться на всю эту от излишнего жира придуманную мишуру в размерах не соответствующих возможностям отставших в пути, их культуре и действительным потребностям. Для богатых демократия – выгодное для них «свободное» соревнование с бедными. Современная форма утонченно-издевательской «культурной» эксплуатации последних. Нам в такой ситуации в обозримом будущем светит только полная экономическая зависимость на правах гигантской полуколониальной державы.
Демократия ориентирована на подтвержденную законом голосовательную процедуру решения вопросов, а она по своей структуре, даже при высокой культуре, органически не способна к созиданию чего-то значительного, оставляющего след в истории и памяти людей. Принимать окончательные решения должен один по закону, а не в обход его, как это делалось и продолжает делаться при демократии, дабы хоть чего-то соорудить мало-мальски полезное. Короче, демократия уже довела страну до такого состояния, что достаточно появиться на горизонте человеку с притязаниями на силу, и он уверенно будет поддержан большинством народа. Нелепо? Но, что поделаешь, если мы почти привыкли резко бросаться из одной крайности в другую.
Только культура в противовес ханжескому себялюбию может победить трусость, раболепие и самоунижение, воспитать в людях истинную самостоятельность, достоинство и честь, привести в соответствие их мысли, слова и дела, так резко расходившиеся между собой и ранее и сейчас. В рамках воспитания такой культуры государству нужно научиться: убийство и предательство не воспринимать, какими бы они мотивами не прикрывались; ложь и демагогию, обман и мошенничество презирать; честь и справедливость превозносить, милосердие не проповедовать, а вершить; говорить и писать только от себя, а не от имени народа.
Когда еще это будет? А потому на переходный период требуется разумная диктатура, а в ней от демократии лишь одно – свободный выбор народом главных руководителей страны и регионов с гарантированной законом, мобильной и очень четкой системой отзыва с поста любого им избранного, но не оправдавшего доверие. Нужен порядок, исходящий изначально от единовластия.
Сегодня исчезло огромное число объектов и явлений, которые критиковались нами на протяжении последнего полустолетия, в том числе и почти весь негатив, о котором шла речь выше. И что же? Возникли новые, и, кажется, в количестве ничуть не меньшем, чем ранее. Появилось всё то, что подвергалось когда-то разносной (и справедливой) критике большевиками. Мы не вышли на нее сейчас только в силу инерции социального механизма. Всё впереди.
Власть поражающе удивительна. Ну, казалось бы, что ей стоило в спокойной обстановке по собственной инициативе устранить очевидные нелепости и спокойно еще пожить, хотя бы несколько лет? Нет, надо было довести дело до бунта. Поставить у власти новых людей и дать им возможность срочно вершить то же, но только другого знака. Вопрос чисто риторический. Ответ на него я пытаюсь дать в этих записках.
ПРИРОДА И ЖИЗНЬ
Прошлое и настоящее. Как оно представляется и воспринимается нами? Огромнейшее количество полемических статей последних лет на эту тему. От крайне правых до самых левых. От полного одобрения бывшего и существующего до его отрицания с пространными доказательствами, одинаково успешно обосновывающими прямо противоположное. Прославление и ниспровержение, защита и критика и еще раз критика, уже равно, как защищающих, так и критикующих. Читаешь многое, особенно, талантливо написанное, с большой увлеченностью, а прочитал – осадок от внутренней неудовлетворенности, от многословия, некоей односторонности, подтасованности, наперед придуманной концепции, а то и подгонки под официальные лозунги, признанные сегодня принципы. Откуда такое обильное собрание мнений, их борьба и, похоже, уже многократно повторяющийся об одном и том же спор? И в этом же плане еще один вопрос. Как удается явному меньшинству заставлять большинство верить в придуманные милоглупости, подчиняться им, буквально эксплуатировать себя, становиться толпой и загоняться, как стадо, на убой? Из столетия в столетие, из поколения в поколение фактически без изменений повторяется одно и то же. Меняется только окружающий фон. Сущность живого та же, лишь слегка припудрена этим фоном.
Еще большую неудовлетворенность испытываю от философских трудов, написанных профессионалами. О простейших вроде вещах в них говорится так, чтобы затуманить суть любого вопроса и затем иметь возможность аналогичным способом, при малейшей необходимости, оспорить написанное. Искусственность в постановке задач. Явно излишняя увлеченность надуманной терминологией. Пустословие, выспренность и амбициозность с притязаниями на абсолютность авторских представлений. Доказательство чего-либо на уровне, о котором я скажу ниже. Почти полное отсутствие граничных условий, определяющих пределы использования (применения) предлагаемых установок, положений, процессов и т. д. Всё совершенно не похожее по манере изложения на то, что имеет место в действительно серьезных научных трудах. Некий особый островок в океане знаний, жители которого нарочно придумали оградить себя от всего остального мира.
Однако в последнем ничего не случается просто так. Философия отработана жизнью. И содержание, и ее форма. По своему положению в обществе она всегда (в основной массе ее создателей) находилась на службе у государства и прежде всех привлекалась для защиты и оправдания существующих состояния и власти, где требовалось уметь черное «доказательно» объявить белым и наоборот. Правда, среди философов встречались и бунтари, но, кажется, им подобное одеяние также и всегда приходилось вполне по росту и фигуре.
Философия – инструмент для достижения поставленных задач и целей. Которые диктуются не потребностями жизни, а природой и конкретным характером человека. Чем сильнее личность, тем в большей степени действует данная формула. Человек становится рабом своих страстей, забывая о реалиях жизни и окружающей его действительности. И чем талантливее он, тем ограниченнее могут быть его представления. Вся энергия по закону сохранения как бы сосредотачивается на придуманной идее. Примеры тому: Кант – с «Критикой чистого разума»; Маркс – с «Капиталом», от которого в конце, кажется, не знал уже как отделаться; Толстой – с болезненным не противлением злу насилием.
Философия прямо, на мой взгляд, никогда не оказывала никакого прямого воздействия на настоящее движение жизни. Она способствовала лишь организации всплесков на плавной кривой эволюции увлекаемостью толпы идеологическим воспитанием. Но никогда не меняла среднего угла ее наклона, хотя косвенно воздействовала на умы и остальной, созидающей, части человечества талантливостью своих творцов, их способностью писать покоряюще складно и внешне логично, так же что-то воспевать или критиковать.
Великие открытия в науке и полезные практические дела вершились одинаково успешно как до жизни известных нам философов, так и после них. Ни Кант, ни Гегель, ни Маркс, ни все прочие ничего не дали человечеству в этом плане, а если что и объясняли, то делали это несравнимо хуже самих ученых, инженеров, врачей, писателей и других, никак не относивших себя к философам.
Читаю, к примеру, испанского философа Х. Ортега-и-Гассета, его «Размышления о технике», и никак не могу понять – зачем эта многостраничная писанина? Усматриваю одно авторское самовыражение. В действительной технике, о которой достаточно в философском плане знать, что занимаются ею по потребности жизни, а изобретают и делают открытия по причинам, о которых кратко также будет сказано ниже, подобное самовыражение без полезного выхода называется изобретательством ради изобретательства. Причем всем имеющим отношение к настоящему изобретательству отлично известно, что самым быстрым и легким путем рождаются либо никому ненужные изобретения, либо – не соответствующие действующим законам. Есть, правда, здесь одно дополнение. О полезности «Размышлений» можно бессмысленно спорить сколь угодно долго, в то время как полезность изобретения однозначно устанавливается с помощью формулы и цифры, в крайнем случае – подтверждается опытом (что, к слову, отнюдь не означает успешность его внедрения). Поэтому заявление Х. Ортега-и-Гассета о технократах, как «демагогах чистой воды, а, следовательно, людях неточных и ненадежных» (на что, допускаю, может он действительно имел какие-либо частные основания), могу с неизмеримо большей обоснованностью парировать той же фразой, отнеся ее к философам. Для пущей же доказательности своей правоты адресовать читателя к изумительной книге «Мои воспоминания» кораблестроителя А. Крылова
Вот, что мне хотелось сказать, прежде чем привести некоторые свои собственные представления о природе и жизни, добавив при этом, что они, не претендуют на некую их абсолютность и, естественно, исходят из незыблемой нормы – всё не без исключений.
Мир природы, пожалуй, в наиболее определяющем виде подчинен закону замкнутого цикла. В нем буквально царствуют рациональные формы круга и шара – уникальнейших изобретений вселенной. Движение тел совершается по устойчивым круговым орбитам. Всё подчинено повторяющимся актам смены событий: созидания и разрушения, рождения и смерти. Организованный в целом изумительно просто и однообразно он логически завершено совершенен и функционирует оптимальнейшим образом. И лишь человек в части собственных деяний усматривает в нем некую, причем все большую и большую, иррациональность. А есть ли она на самом деле? Нет, безусловно. Дела людей, определенные их текущим состоянием, так же естественны, как естественно появление вызывающей у нас отвращение огромной стаи саранчи. Однако это отнюдь не запрет на человеческие устремления к лучшему, ибо и они естественны. Это констатация факта для более правильного движения вперед. Человек не должен настраиваться на волну своего особого положения в мире живого оттого, что он здорово отличается от собаки. Ведь последняя, без каких-либо притязаний, не в меньшей степени, чем человек по отношению к собаке, умнее, например, червяка. Кажется нам, но не всем же одно и то же.
Всё, что было, есть и будет – запрограммировано природой и подчинено закону жизни: рождения, борьбы и смерти. Как естественна жизнь камня, растения и зверя, так же естественны и любые человеческие деяния. Естественно и зло и насилие, благо и добро, разрушение и созидание, философия и ее критика. Всё от природы, в том числе и то, что кажется в нашем представлении «сознательным» проявлением разума и воли.
Человека, хотя бы немного, но заинтересованно знакомого с наукой и техникой, не могло не покорить могущество законов физики, теорем и формул математики. Сила и красота их в железной логике доказательств и покоряющей воображение убедительности. Поражают даже гипотезы, выдвинутые давным-давно и не опровергнутые до сих пор. Нечто другое мы видим в мире социальных структур и человеческих отношений. Здесь взгляды не уточняются, а временами полярно меняются, неимоверно превозносятся или ниспровергаются.
Не кажущийся ли здесь хаос и непредсказуемость событий и не есть ли они оттого, что эта область исследований исторически оказалась в руках гуманитариев и политиков, мало понимающих в настоящих законах природы, а порой ненавидевших их еще со школьной скамьи? Ведь только они могли придумать такие основополагающие идеи, как бытие определяет сознание, классовая борьба. Писать многотомные сочинения о правилах мышления, способности суждения и разнице между «восприятием, идеей и впечатлением». Веками стимулировать бессмысленный спор между идеалистами и материалистами. Философские обоснования существования мира превратить в поток словоблудия, взаимных обвинений, идеологических, для пущей важности прикрытых словом «теория», постулатов и просто глупостей. Не разум и здравый смысл, а какая-то вакханалия чувств – конечно, не без оговоренных мною исключений.
Вот почему меня подмывает мысль посмотреть на проблему с другой стороны и попробовать еще раз перенести на жизнь живой природы законы физики и математики, ну хотя бы в их качественной характеристике. И хотя механистические взгляды на жизнь в прошлом не раз подвергались критике, что-то заставляющее к ним возвращаться есть. Меня лично в возможности такого подхода утверждает то, что жизнь на нашей планете исключительно взаимосвязана и взаимозависима, в принципиальной основе, повторяюсь, организована божественно простейшим и однообразным способом, и всё живое на Земле – производное материи, которая не могла не передать живому своих законов существования.
Начнем с самых известных трех законов созданной Ньютоном великой теории движения.
Первый – закон инерции. Им устанавливается, что мерой инерции служит масса. Чем больше масса тела, тем труднее его перевести из одного состояния в другое, сдвинуть с места или приостановить бег. Данный закон, учитывая его качественный характер, похоже, вообще без каких-либо ограничений может быть перенесен на любой объект, подверженный изменению состояния. Социальная система – маховик с огромной массой и потому необузданное желание скоротечных ее преобразований всегда заканчивалось провалом, а их гениальные дирижеры оказывались в положении, образно названном Гегелем «иронией истории». Разве наша – не нагляднейшее подтверждение этому? И разве не подчинены данному закону многочисленные примеры, которые уже упомянуты мною и будут еще приведены далее?
Второй и третий законы дают нам количественную характеристику движения. Они определяют зависимость ускорения тела от его массы и приложенной к нему силы, а также равенство сил действия и противодействия. Применительно к обществу это означает, что быстрые преобразования требуют больших усилий либо наличия в нем соответствующих сил, потенциальной готовности к такому акту. Что касается третьего закона, то он формулируется прямо в своей физической первооснове: действие равно противодействию.
Вспомним, как партия начала перестройку, объявив ее очередной революцией. В политической области действительно произошла революция и весьма быстрая. На то были соответствующие силы. Была подготовленность общества к данному переходу. Идеологическое воздействие на него со стороны партийного аппарата на протяжении сорока последних лет приняло настолько нелепые формы, что стала восприниматься народом, как игра, в которую низы позволяли играть с собой верхам. Страну сотрясало инакомыслие, и для взрыва оставалось лишь дать сигнал.
В области экономической – наоборот, хотя и действовала та же тоталитарная система, но тут, в отличие от политики, нельзя было обойтись игрой. Народ и потому, что надо себя кормить, и в силу природного стремления к труду вынужден был заниматься делом, но делал его с каждым годом все хуже и хуже, с меньшим умением и самостоятельностью и все с большим упором на план, отчетность и лозунг. Он лишился в потенции способности к решительно быстрым изменениям в сфере экономики. Отсюда наступил ее крах. Строить надо было по-другому, опираясь на первый закон Ньютона. Но сейчас уже поздно. Пришлось, на фоне компьютерной техники и заграничных лимузинов, броситься в стремнину дикого рынка без надлежащей инфраструктуры и должной предпринимательской практики.
Вспомним и другое, как тогда партийный аппарат с возмущением воспринимал критику в свой адрес. А на что, спрашивается, он должен был рассчитывать? Насилия и разного рода дикостей допущено много, учинялись и пропагандировались они с такой силой, что не могли не вызвать адекватного им противодействия. Противник любого насилия, и такой нормы придерживаются многие другие – но это все же исключение. В массе действует третий закон и тут ничего не поделаешь. Замечание одно. В физике противодействие наступает мгновенно с действием. В социальной системе – с разрывом во времени. Думать о последствиях нужно раньше, до того, как они наступят. К сожалению, из-за незнания (или нежелания), в постперестроечный период властной частью народа дела вершатся по проторенному сценарию: ее хватательные функции, бездумное вранье и открытая ложь проявились в масштабах не меньших, чем в предшествующую историю. Не поймут, не осознают величины ими творимого – кончится аналогичной реакцией.
Еще один закон. Закон цикличности. Им устанавливается повторяемость событий. В отличие от законов механики он доказано действует не только в мире неживой материи, но работает в полную меру также в биологии и физиологии. А в части деяний человека, его труда? Есть основания, несмотря на такую же острую критику и этого, биологического, подхода к социологии, полагать, что человеческая сущность остается в основе постоянной. Она запрограммирована краткостью жизни человека и ее главными моментами: рождением и смертью. Воздействие последних на психологию его поведения имеет определяющее значение в сравнении со всем остальным, что связано с окружающей обстановкой. Отсюда, в частности, вытекает бессмысленность попыток революционного преобразования общества. В них одна видимость движения. На самом деле оно способно только к эволюционному развитию, медленному движению по кругу живой природы, изменение которой есть функция суммы накопленной информации в ее многообразной совокупности, а в целом – функция времени и общей культуры.
Возраст человека при прочих равных возможностях почти однозначно характеризует его поведение: юношеские утопические мечты, притязания взрослого мужа, осторожность и недоверчивость умудренного опытом старца. Поэтому было неплохо бы любителям цитирования гениев помнить это и более критично к нему относиться. Можно набрать чего угодно в защиту и правых, и левых, и центра. Правда не только по данному критерию, а и по другим известным причинам, но столь же устойчивого плана, свойственного человеческой натуре. Тем не менее генеральная философская концепция все же определяется возрастом автора. Примеров, подтверждающих сказанное, сколь угодно много.
Вот, что писали Маркс и Энгельс в пожилом возрасте: «История так же, как и познание не может получить окончательного завершения в каком-то совершенном идеальном состоянии человечества. Совершенное общество, совершенное государство это вещи, которые могут существовать только в фантазии». Разве приведенное может как-то корреспондироваться с их юношеским Манифестом или с наивным рассуждением Энгельса о предпосылке перехода к социализму: «Пока нельзя производить в таких размерах , чтобы не только не хватало на всех, но чтобы еще оставался избыток продуктов для увеличения общественного капитала и дальнейшего развития производительных сил, до тех пор должны всегда оставаться господствующий класс…и другой класс бедный и угнетенный.... Теперь уничтожение частной собственности стало не только возможным, но даже совершенно необходимым». Про те-то времена 150-ти летней давности, когда не производили, наверное, и сотой доли того, что производим сейчас. А ведь природа человека его желания, устремления были тогда точно такими же, как и сегодня.
А что провозглашали Ленин и его команда в предреволюционный и первый послереволюционный период, и как они преображались под давлением возраста, практического опыта и действительности?
Поистине представления о жизни совсем разных людей по складу и характеру намного ближе друг к другу, чем они же одного человека в разном его возрасте и положении в обществе. Они буквально вытаскивают из человека все младоглупости и в тем большей степени, чем с большими личными притязаниями и амбициями он их воспринимал и провозглашал в свои активные годы.
Поразительна и константность воспоминаний пожилых людей (автор тут при всем его старании – не исключение). Из поколения в поколение в них передается одна главная мысль: раньше (в молодости) было лучше, чем теперь. Были мечты, планы, одержимость, здоровый авантюризм, бескорыстие. Кажущаяся картина происшедших заметных изменений, а на самом деле на фоне медленной эволюции – неизменная повторяемость природной человеческой сущности.
А поскольку общественные формации есть продукт человеческой деятельности, то и они столь же уверенно подчинены цикличности. Рождение и неизбежность смерти. Но этика последней по отношению к социальным структурам требует своевременного признания несостоятельности той, что подошла к такому рубежу. Своевременного признания, и прежде теми, кто стоит у власти и упрямо ее использует.
Наш век не зря называют веком информации. Рациональная его организация определяется в большой степени законом передачи информации и ее эффективности, а он, как ни странно, является изумительнейшим эквивалентом физического закона Ома, на основе которого действуют электрические цепи. При последовательном подсоединении цепи к источнику тока общее ее сопротивление есть сумма сопротивлений отдельных элементов. Десять лампочек, подсоединенных таким образом, каждая из которых в отдельности могла бы гореть в полный накал, еле тлеют, не светят и даже не греют. Отказ хотя бы одной прекращает работу остальных.
При параллельном подсоединении сопротивление цепи резко уменьшается, ток течет в полную силу и, при достаточной мощности источника, каждый из потребителей работает сам по себе и практически не реагирует на то, в каком состоянии в это время пребывают остальные – крутятся ли наполовину, отключены или вовсе вышли из строя. Наша социалистическая система была построена по принципу последовательного соединения, последовательной многоступенчатой передачи информации как сверху вниз, так и обратно. Отрицательные ее последствия проявились в полном соответствии с законом Ома. Особая абсурдность такого построения имела место в партии, иерархическая структура которой насчитывала до 10 последовательных ступеней: от первичной организации группы до ЦК Союза – через цех , завод, район, город и т. д. По такой цепи нормально сигналы не идут: они перевираются, искажаются и теряются. В стратегическом плане эффективного движения общества вперед подобная структура – нонсенс. Однако это не означает, что она была придумана совсем бессознательно. Нет. На то имелся свой интерес.
Общество, нам противостоящее и основанное на принципах природной естественности, было построено на параллельных структурах с минимальным количеством промежуточных связей. Потому особое развитие оно получило именно сейчас в эпоху информатики, сделавшейся таким же товаром, как и любой другой продукт.
Можно вспомнить еще об одной группе более фундаментальных законов, выполняющихся даже в микроскопическом мире атомов. Речь идет о законах сохранения энергии, импульса и электрического заряда. Суть их в том, что в замкнутой системе, т. е. такой системе, на которую не действуют внешние силы, не исчезает и переходит лишь в другой вид энергия, сохраняется постоянным полный импульс и сохраняется равным нулю суммарный электрический заряд. Указанные законы не могут полностью распространены на живой организм в их точной количественной интерпретации и тем не менее в качественной характеристике воспринимаются вполне корректно и подтверждаются развитием мировой цивилизации. Давно признано, что российская социалистическая революция оказалась хорошим архимедовым рычагом, подвинувшим часть мира в сторону увеличения его положительного потенциала. Как же он распределился в целом? На основании законов сохранения можно утверждать, что сколько от революции потеряли на определенный момент одни – столько приобрели другие. Полный импульс общественной системы Земли остался неизменным. Наш отрицательный заряд скомпенсирован был такой же величины положительным. Мы как бы потерлись своим могучим, но дурным хребтом о лоснящуюся от жира шкуру более толкового существа. Еще более катастрофические результаты мы получили от революционной перестройки и последовавшей за ней контрреволюции. Как всегда вполне мирной по акту ее проведения, но сверх грандиозной по более поздним ее отрицательным последствиям для нас и так же сверх , но с обратным знаком приобретениям для западного мира. Да и внутри нашей собственной подсистемы не происходило ничего иного. При общем снижении ее импульса низведенные до нищенского равенства потребности большинства оказались перекрыты непомерными и никем не контролируемыми благами. Сначала партаппаратной верхушкой, затем спекулянтами, а теперь уже прямыми ворами и грабителями «ничейного» госимущества.