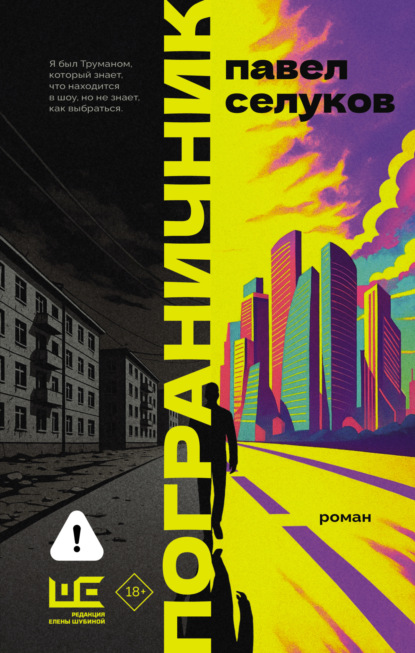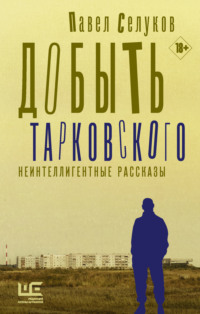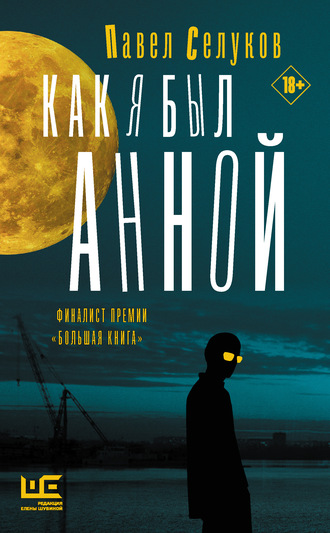
Полная версия
Как я был Анной
Прения по этому вопросу заняли монастырь на три месяца, пока настоятель не вывесил объявление: «Вопрос отсутствия или наличия свободы воли у человека обсуждать строго запрещается! Иначе – анафема».
Естественно, братия вернулась к вопросу первому, из которого что только не вытекло. Итак. Если человек создан по образу и подобию Божьему, то как же он псина? Я, надо сказать, от бурных разговоров уклонялся. Я пришёл в монастырь искать спасения от буйного темперамента и не хотел распалять эту сатану жаркими спорами. Не такими были братья Григорий, Михаил и Василий. Григорий, мужчина в соку и рыжебородый, укрылся в монастыре от долгов, которые произвёл ради стриптизёрши, ибо любил ее крепко. Михаил пришёл сюда от неспособности жить в грубом мире, потому как сам был нежен и трепетен, усов почти не имел, подмышками не колосился, носил бледную кожу и тонкие запястья. Василий, хоть и Василий, напоминал злую гориллу, он кого-то убил, отсидел, помыкался по притонам, пил, кололся и раскаялся. Михаил слыл у нас богословом крайних сурожских взглядов. Василий, напротив, возглавлял осиповцев. Григория вообще обзывали «розовым», но не потому что он мужеложник, а из-за философа Розанова, который розовым называл христианство Достоевского, намекая на его излишнюю любовь и оторванность от реальной жизни. Григорий не то что бы сильно оторвался от реальной жизни, но любовь трактовал своеобразно. По большому счёту разночтения трех монахов начинались и заканчивались второй Христовой заповедью: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Михаил понимал её так, что всякий человек – ближний, и любить его надо хотя бы потому, что в нём есть образ и подобие Божье. Та самая изначальная искра. Василий понимал заповедь строже, считая, что ближний – это друг или родственник. Он не был склонен распространять во все времена дефицитную любовь шире этого круга. Григорий смотрел на заповедь иначе. Он говорил, что это не одна заповедь, а две – возлюби себя и ближнего своего, ведь если ты не любишь себя, как ты сможешь полюбить другого? Тут Григорий подчёркивал, что любовь к себе надо понимать не в смысле мирского эгоизма, нарциссизма и самолюбования от гордыни, а в смысле духовном, подлинно библейском. На этом этапе между троицей разгорались самые нешуточные споры. Статья про девочку-собаку из Архангельска только усугубила ситуацию.
В тот день мы сидели в предбаннике, была очередь нашей кельи топить баню и приуготовлять воду. Григорий, Михаил и Василий молчали в разные стороны. Неожиданно Михаил вскочил, прошёлся туда-сюда.
Михаил: Как она может любить Бога и людей, если она собака?
Василий: Вот собак не трогай. Они получше людей любят.
Григорий: Он не о том. Как мы можем знать, любит она или нет?
Василий: Погодь. «По плодам их узнаете их». На плоды смотреть, и всё.
Михаил: Какие плоды у собаки?
Григорий: Я больше скажу – что есть плоды? Это соответствие нормам человеческой морали, нормам общежития? Если так, то как же «не ходите пред людьми, ходите пред Богом»?
Михаил: Исторический контекст. Вспомните первый век христианства. Если христианин того времени соблюдал бы нормы морали и общежития Рима, он бы перестал быть христианином.
Василий: А как же «всякая власть от Бога»?
Михаил: Ты искажаешь, у Павла так: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение».
Михаил: Какая разница, смысл-то тот же!
Григорий: Павел сказал так из-за боязни, что христиане увлекутся антиримскими настроениями и погибнут от рук Империи.
Василий: Не надо ля-ля. Он так сказал, потому что Бог – высшая мудрая власть, без Его ведома волос с головы не упадёт, не то что там ещё чего-то.
Михаил: Листок не упадёт, но это в Коране. А у Матфея так: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены».
Григорий: Это не стих об абсолютной власти, это слова ободрения апостолам, чтобы они не боялись следовать за Христом.
Василий: Чушь какая. В упор не видишь!
Михаил: Это стих о том, что Бог всё знает, но птиц собственноручно не обрушивает, они падают в силу изначальных божественных законов, а не личного Его вмешательства.
Григорий: Ты сказал – собственноручно, но разве у Бога есть руки? Проблема в том, что мы до сих пор не избавились от пут гипостазирования.
Василий: Это что ещё?
Григорий: Это когда человек наделяет нечто нечеловеческое человеческими признаками. Очеловечивает. «Доброе государство», «Седобородый Бог». Даже давать имена животным отсюда.
Михаил: Хорошо. И что в остатке? Апофатическое богословие против катафатического?
Василий: Хорош умничать! Будем ли мы утверждать, чем Бог является, или будем ли отметать то, чем он не является, к разгадке девочки-собаки это нас не приблизит.
Михаил: Если мы не можем знать, любит ли она людей и Бога, то, в сущности, мы ни про кого не можем этого знать. Стало быть, каждый человек живёт с Богом наедине, и то, что происходит в христианских общинах, я имею в виду осуждения, анафемы и гнёт коллективной реальности, явления не только противные, но и бесполезные.
Григорий: Я знал это и без девочки. Вопрос в другом. Если человеку, чтобы стать человеком, нужно общество людей и, я бы сказал, соответствующий контекст, иными словами, для раздувания Божьей искры необходим ряд обязательных условий, то не говорит ли это о зыбкости Бога, зыбкости его изначального присутствия в человеке? Например, будь эта девочка крещена в младенчестве, а потом попала в стаю собак, мы могли бы называть её христианкой? И ещё. Сейчас нам кажется, что мы живём более-менее праведно, но если взглянуть на наши жизни из будущего, забежав лет на двести вперёд, не предстанем ли мы перед потомками кучкой варваров, пожирающих мясо? Мы ведь сейчас примерно так и смотрим на христиан времён Достоевского, помните, где православный перекрестился и тут же зарезал спящего человека ради часов.
Василий: Вот вы оба всегда так! Какой смысл рассусоливать за наших потомков? На двести лет никто из нас не забежит, и слава Богу! Есть две заповеди Христа, есть десятка от Моисея – живи, старайся соблюдать и не парься.
Михаил: А как стараться правильно, ты знаешь? Сидеть, например, в монастыре или идти по миру, благовествуя Слово Божье? Или завести семью? Или не заводить? Если мы стараемся сделать молоток, бегая каждое утро по лесу, то что тогда?
Василий: Не понял.
Михаил: Ну, представь: бежим мы по лесу, вдруг останавливает нас странник и спрашивает: «Вы чего делаете?» А мы отвечаем – молоток. А он говорит – молоток совсем не так делают, сначала надо найти липу для рукоятки. Понимаешь?
Василий: Не можем мы жить настолько мимо! У нас Библия есть, навигатор почти, карта.
Григорий: И пришло время нашей ежедневной рубрики – вспоминаем отца Григория Чистякова, да упокоит Господь его душу.
Все трое перекрестились. Перекрестился и я.
Михаил: Да, в Библии много наслоений, но…
Григорий: Как тебе такое. Христос говорит: «Не гневайся на брата своего». А в VIII веке, в угоду константинопольскому императору, переписчики добавляют в этот стих слово «понапрасну». То есть за дело гневаться можно, осталось на своё усмотрение определить границы дела.
Михаил: Ты не дал мне договорить. Наслоения есть, никто не спорит, однако мы живём верою и надеждой, уповая на слово Божие, что светит нам и сквозь налёт времени.
Василий: Опытный путь, вы постоянно забываете об опытном путе…
Григорий: Пути.
Василий: Не важно. Если Библия работает, а она работает, значит, её не смогли испортить двадцать веков переписок. Это только укрепляет мою веру, вот в чём штука.
Григорий: Хорошо, примени свой опытный путь к девочке-собаке. Мне понятно, что Господь подбросил нам эту газету, чтобы, во-первых, мы навсегда оставили суд. Эта газета, как бы странно это ни звучало, льёт воду на мельницу апостола Павла…
Михаил: Да-да, Первое послание к Коринфянам: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь».
Василий: Молодец, пять. А что во-вторых?
Григорий: Во-вторых, как такое возможно, что эта девочка неисцелима? Получается, она лишена выбора, какого бы то ни было выбора. И этот чудовищный аргумент – аргумент в пользу арминианства.
Михаил: Каким образом?
Григорий: Если Бог приуготовил ей такую судьбу ещё до рождения, то это не Бог – это диавол. Поэтому Царствие Божие не от мира сего, в сём мире правит сатана. Бог проявляется в Царстве Кесаря лишь вспышками, действуя через людей, добровольно принявших Его или умеющих слушать свою совесть. «Язычники же, не знающие Христа, но живущие по совести, по ней и осудятся».
Михаил: Ты понимаешь, что судишь Бога по своим представлениям о нравственном и безнравственном?
Василий: Гордец. Откуда ты знаешь, какая судьба ждала эту девочку? Сейчас она блаженна и юродива, это лучше, чем быть изнасилованной и убитой.
Григорий: Из разговоров с вами я заметил две вещи. Ваша вера в диавола столь велика, что один из вас готов уверовать во всемогущего Бога, только бы поколебать свои страхи. А второй приписывает человеку вечную роль страдальца в Царстве Кесаря, который ищет Божьего утешения и сам способен лишь на пассивную любовь, хотя человек – высшее Божье творение, способное не только терпеть зло, но и сражаться с ним. Вспомните Первое послание к Коринфянам: «Мы соработники у Бога». Его соратники. Христос – Богочеловек, нельзя помнить только о Боге и забывать о природе.
Василий: Бла-бла-бла. Дальше-то что?
Михаил: Да, что ты предлагаешь?
Григорий: Я предлагаю поехать в Архангельск и увидеть эту девочку.
Василий: Зачем?! Что это даст? Её и врачи смотрели, и кто только не смотрел. И на какие шиши ехать?
Михаил: Не нужно никуда ехать. Посмотрите на Костю.
Все трое посмотрели на меня. Дело в том, что накануне своего приезда в монастырь я дал обет молчания и неслышания, отчего все полгода жил тут глухонемым, по вечерам молясь шёпотом в туалете, чтобы связки не отвыкли от голоса. Голос похож на еду. Когда долго постишься, от голода мир запретных запахов раскрывается, и ты чуешь то, чего раньше никогда не чуял. Когда в горле долго не было голоса, всякое слово обретает вкус, и вкус этот тем ярче, чем дольше его не было. Жить в молчании поначалу неловко, словно твою правую руку привязали к спине, но вскоре молчание принимает тебя, и ты будто бы плывёшь по тёплому морю. Ещё от долгого применения молчание проникает под кожу. Приучив к молчанию губы и горло, ты приучаешь к нему и душу. Вдруг она перестаёт болтать и слушать, а начинает как бы видеть. Это зрение раскрашивает мир доселе неведомыми красками, отказываться от которых в угоду болтовне просто жалко. Поэтому я и не отказывался. Я лелеял свою внутреннюю тишину, как мать нерождённого младенца.
Григорий: При чём тут Костя?
Михаил: Он глухонемой, однако пришёл к Богу.
Василий: Глухонемой – не собака.
Михаил: Да, не собака, но близко к ней.
Григорий: Ты его сейчас оскорбил.
Михаил: Вот! В том-то всё и дело. Оскорбил ли я его, если он не слышал оскорбления?
Василий: Получается, оскорбление не достигло адресата, никто не оскорбился, значит, оскорбления не было.
Михаил: Теперь экстраполируем эту логику на девочку-собаку. Она никогда не была человеком, стало быть, она не страдает от того, что она собака, как Костя не страдает от оскорбления, которое не способен услышать. А про Божью искру я сказать ничего не могу, как и никто не может, ибо никто не знает, вдруг она разгорится в ней завтра, или через год, или затеплилась уже. Что же касается арминианства или кальвинизма, то мы забыли о проклятье до четвёртого колена, когда люди сами обрекают своих потомков на горести, а Бог и диавол лишь сертифицируют это решение. Вдруг девочка несёт на себе печать родового проклятия, что тогда?
Григорий: Я не согласен с самого начала. Даже не услышанное оскорбление остается оскорблением, потому что мы ходим не перед людьми, а перед Богом. Грех тут в личной чёрствости, из которой произрастает оскорбление. Ты согрешил против любви. Я бы на твоём месте попросил у Кости прощения.
Михаил: Ты настаиваешь на путешествии в Архангельск?
Григорий: Я бы поехал.
Василий: Не знаю. Денег нет. Да и далеко.
Михаил: Про хождение перед Богом я согласен.
Михаил присел возле меня на корточки.
Михаил: Костя, прости меня.
Я откашлялся и сказал:
– Прощаю. Едем в Архангельск?
Михаил упал на пятую точку. Григорий вскрикнул. Василий окаменел. Его я так и не сумел убедить в том, что мой прорезавшийся голос – не Божье чудо, а прерванный обет молчания.
На следующий день мы вчетвером отправились в Архангельск. Путешествие заняло у нас почти месяц. В основном мы шли пешком, изредка проезжая автостопом. Четверо мужчин в черных рясах, бредущих с палками по обочине, мало привлекали водителей. Только один дальнобойщик вёз нас довольно долго. В дороге все мы взяли обет десяти слов в сутки, чтобы осознать их ценность и научиться видеть душой. К концу путешествия нас уже не сильно волновала его цель. Мы поняли, что молча доверять Богу в тех случаях, когда, с точки зрения мира, исправить ничего нельзя и при этом делать то, что желаешь духом, пусть это и кажется людям безумием, – и есть вера, а вычерпывание языком своих экзистенциальных глубин в равнодушный космос – и есть неверие.
В Архангельске мы разузнали, что девочку-собаку поместили в психиатрическую больницу. После недолгих уговоров главврач впустил нас к ней. Она была не агрессивной и ластилась, как лабрадор-щеночек. Мы помолились за неё и накормили конфетами, потому что она уже их ела. По-моему, я разглядел человеческие искорки в ее глазах. Назад мы ушли втроём. Василий остался в архангельском монастыре, чтобы навещать девочку-собаку по выходным. Девочку зовут Настей. Она как-то сразу привязалась к Василию и даже не хотела его отпускать. Василий мечтает когда-нибудь удочерить её, «потому что ей нужна нежность». Григорий говорит, что любовь – это и есть нежность. Не знаю. Михаил и Григорий вернулись в монастырь, а я пошёл домой, чтобы пожить иначе.
Игра в куклы
Виктор Амазник, человек чёрствой души и беспредельного духа, уважал в жизни три вещи: по лесу с утра километров десять пробежать, распорядок дня и море. Распорядок у Виктора был жёсткий: в семь – подъём, пробежка, в девять – завтрак. Потом чтение книг, в основном, документально-исторических, турник, обед, сон послеобеденный. В четверг вечером Оля-Света-Марина из клуба, перетрах спортивный, изгнание, здоровый сон. Работал Виктор в элитном стрип-клубе начальником охраны по ночам пятниц и суббот. Получал по пермским меркам неплохо – пятьдесят тысяч рублей. Плюс – ни ребёнка, ни котёнка, квартира от бабки досталась, да и сам он был прижимист и стоек.
Жениться Виктор не хотел, почитал это глупостью и одиночество своё ценил и оберегал. Он вообще был педантичен до крайности. Как-то Виктор жил с одной девушкой, но долго не выдержал, она волосы в сливном отверстии ванной противными прядями оставляла и кружку не на подставку, а прямо на стол ставила. Каждое лето Виктор летал на море и плавал в нём как умалишённый, волнуя спасателей. Этим летом тоже рванул. Лето в Перми выдалось осенним, безликим. Виктор всего два раза Каму переплыл к августу, хотя обычно раз восемь успевал. Высокий, под метр девяносто, жилистый, но при этом ловкий, этакий чёрт в ступе, Виктор откровенно любил только себя. Но после тридцати пяти в его броне появилась брешь.
Стала ему сниться девочка Женя из детства, играл он с ней в песочнице шестилеткой, любил вроде бы, только помнил про это мало, разве только то, что русой она была, белокожей и в гольфиках синих. Сны эти эротического зерна в себе не имели, но грудь после них ломило и хотелось вещей абсурдных – нежности, чтобы душу кому нараспашку, и уюта. Родители Виктора погибли в аварии пятнадцать лет назад. С тех пор он и взял себя в ежовые рукавицы и в рукавицах этих ему понравилось. Виктор находил в себе слабости (а иногда их придумывал) и с методичностью автомата искоренял. Тут же его стали обуревать фантазии, налетавшие, как правило, перед сном. Представлялась Виктору альтернативная реальность, в которой он никуда не переехал, а пошёл вместе с Женей в школу, потом – в институт, любовь между ними случилась, свадьба, дети, дом из брёвен, собака добрая, может, хаски, а может, ретривер золотистый. И осень почему-то: тихая, бабья, листья под ногами шуршат, а он сына на качелях самодельных качает или на «лапах» боксу учит.
Мало-помалу Виктор стал эту альтернативную реальность прорабатывать. Не специально даже, а потому что мысли юркие, сложно за ними уследить. Сначала он в интернет залез – про хаски и ретриверов прочитал. Ретривер умнее показался и для детей пригоднее. Потом про дома узнал. Из брёвен, из бруса, из пеноблоков? Далеко от Перми или в черте? Чтобы речка рядом или не обязательно? Дальше – больше. Сучку брать или кобеля? Детей сколько будет: один, двое, трое? Пусть двое – мальчик и девочка. Как назвать? Тут Виктора понесло, и он полез в книгу про имена. После долгих размышлений Виктор решил отдать Владика на плавание. И для здоровья полезно, и фигуре способствует, да ещё и бассейн неподалёку от дома построили, очень удобно.
Вскоре Виктор всполошился – денег-то хватит на такое счастье? Получалось – нет. Но если на карьеру поднажать, может и хватить. Мысли о нехватке денег отразились на реальности. Виктор стал отчаянно экономить и поэтому решил ехать на российское море и поездом, хотя обычно летал в Турцию, где море поинтереснее. Перед отъездом с ним произошёл странный случай. Он покупал большие беспроводные наушники, но вдруг заглянул в детский отдел и сходу взял куклу. Куклу эту, протрезвев, Виктор признал экивоком разума, но выбрасывать было жалко, и он решил захватить её с собой на юг, чтобы подарить какому-нибудь ребёнку.
Упаковав куклу в чемодан, Виктор лёг спать и тотчас погрузился в воспоминания. Армия наползла, траву на могилках надо вырвать. А потом снова Женя, дети, дом, собака… Неожиданно Виктор заплакал. Не так заплакал, когда готовишься и лицо заранее куксишь, а так, словно глаза отдельной жизнью зажили и погнали слезу. В потоках слёз на равнодушном лице он и уснул.
Ранним утром Виктор сел в поезд Новосибирск – Адлер. Место у него было хорошее – нижняя полка в купе с кондиционером. Вместе с ним ехали двое стариков: дедок спал наверху, бабушка – внизу. По купе разносился феноменальный храп. Бабушка храпела тенорком и как-то нервно; дед, словно тромбон, басил размеренно, создавая фон. Виктор сунул чемодан под полку и лёг не раздеваясь. Потом сел, достал наушники, нашёл в телефоне U2, включил на полную громкость и перебил гитарами храп. Вскоре обозначилась проблема – спать на боку в наушниках не получалось, а на спине Виктор заснуть не мог. Вздохнув, снял наушники и лёг на правый бок, прикрыв левое ухо подушкой. Вдруг дед всхрапнул особенно громко. Бабушка проснулась, привстала и ткнула деда:
– Гена, чего расхрапелся? Спать невозможно!
Дед пошлёпал губами и затих. Бабка-то храпит сильнее деда и ещё смеет ему предъявлять? Это показалось Виктору несправедливым. Через пять минут старики вновь дружно захрапели. Тут Виктора осенило: он включил диктофон, чтобы записать храп стариков, а утром их пристыдить и указать бабушке на двойные стандарты. Они оба его раздражали, но бабушка больше из-за тенорка и нападок на деда. За сочинением обличительной речи под стук колёс Виктор, наконец, уснул.
Разбудил его запах домашних пирогов с мясом и чего-то кислого, как выяснилось – уксуса. Дедок в майке сидел за столиком и наворачивал пироги, обмакивая их в мисочку и запивая чаем из стакана в подстаканнике. Несмотря на свой преклонный возраст, дедок был жилистым, широким в кости и с большими основательными руками. На плече едва различимо проступала синяя татуировка: якорь и тигриная морда. Морпех или с «коробки». Виктор поздоровался. Дедок кивнул и протянул руку, поглядывая на него с любопытством. Виктор пожал твёрдую ладонь, оценил силу рукопожатия. Дедок представился:
– Геннадий.
– Виктор.
Виктор не любил игру «кто кого передавит», хотя, скорее всего, смог бы передавить большинство ладоней в России.
Бабушки в купе не было. Наверно, ушла в туалет. В поезде можно уйти в три места: в туалет, за кипятком или в вагон-ресторан, но на завсегдатаев последнего пожилая пара не походила.
Решив воспользоваться моментом, Виктор положил на стол телефон и включил запись ночных храпов.
Геннадий: Это что?
Виктор: Это вы и ваша жена. Знаете, почему я это записал?
Геннадий: И почему?
Виктор: Потому что я не мог заснуть. Помните, как ваша жена разбудила вас, чтоб вы не храпели?
Геннадий: Смутно. Выключите, Люда скоро вернётся.
Виктор выключил.
Геннадий: Ей только не включайте.
Виктор: Почему?
Геннадий: Она не знает.
Виктор: Чего не знает?
Геннадий: Не знает, что храпит. Десять лет храпит и не знает.
Виктор обалдел.
Виктор: Почему вы ей не сказали?
Геннадий: А смысл? Расстроится только, а храпеть не перестанет. От веса это, от возраста. Вы бы тоже могли промолчать.
Виктор: Не мог. Я хотел, чтобы вы знали, какие неудобства причиняете окружающим.
Геннадий: Теперь я знаю, и мне совестно. Вы довольны?
Виктор: Нет. Десять лет молчать… В голове не укладывается.
Геннадий: Мы с ней в садике познакомились. В школу вместе пошли, потом в институт. В два-дцать лет поженились, двоих детей родили. Знаете, сколько у нас внуков?
Виктор: Сколько?
Геннадий: Семь.
Виктор: И что?
Геннадий неожиданно перешёл на «ты».
Геннадий: Не понимаешь? Люблю я ее.
От такой штыковой искренности Виктору стало неловко. В купе вошла Люда. Невысокая, полненькая, со скорбной носогубной складкой, она носила всё ещё красивое лицо с гладким лбом и смеющимися глазами.
Геннадий: Познакомься, Люда, это Виктор.
Люда: Здравствуйте, Виктор.
Виктор поздоровался и пригляделся к своим попутчикам. Если б какая угодно женщина вздумала храпеть в его кровати, он бы отправил ее домой или в крайнем случае положил спать в соседней комнате. А если б храпела Женя? Если б она оставляла волосы в ванной? Если б не ставила кружку на подставку? Эти вопросы, заданные вроде бы самому себе самим собой, застали Виктора врасплох. Он задумался. Из собственных мыслей его вырвал Геннадий.
Геннадий: А мы с Виктором про внуков говорили, пока ты плескалась.
Люда: Фотографии показывал?
Геннадий: Виктор, хочешь посмотреть фотографии?
Виктор не хотел, но по инерции кивнул, так располагала к себе теплота в голосе Геннадия. У стариков оказались современные сенсорные телефоны. Замелькали снимки, зазвучали комментарии. «Это в Геленджике. Фонтан какой! А это… Слово забыла. Тунис. Точно! Сахара там, они на мотоциклах катались. На квадроциклах. Ой, Гена, всё-то ты знаешь! Это со свадьбы, Коленька наш. Нефтяником сейчас работает. Мастер на буровой. А это Леночка. За Борьку вышла, в деревне сидят. А что, в деревне не жизнь, что ли? Почему не жизнь – жизнь. А тут, посмотри, Прага. Страшилищи. Как их, Гена? Горгульи. А это мостик кованый. Лебеди плавают».
От потока ненужной информации Виктор оцепенел и невидящим взглядом уставился в стенку купе. Старики этого не заметили, им было плевать, смотрит он или нет, они будто бы показывали фотографии себе, как сам Виктор не единожды пересматривал «Властелина колец», нежась и волнуясь в восхитительной предсказуемости шикарного фильма. Неожиданно его пронзила мысль: своего фильма не снял, вот и смотрю чужие. Ему вдруг захотелось раскрыть телефон и тоже угостить стариков снимками своей нормальной жизни, только их не было, как, впрочем, и жизни.
Геннадий: А у тебя как?
Виктор слегка вздрогнул.
Виктор: Что – как?
Люда: Нельзя же так в лоб, Гена. Он хотел спросить вас о детях.
Геннадий: Чего нельзя-то? Мужик статный, справный. Поди троих уж настругал?
Виктор: Двоих.
Сказав «двоих», Виктор и сам внутренне раздвоился. Один голос заорал – каких, на хрен, двоих, что ты несёшь? Второй изрекал нежно и вкрадчиво – про дом ещё расскажи и про собаку не забудь. И Виктор действительно рассказал. Поначалу он говорил неуверенно, совестясь, а потом провалился в фантазию, как путник, идущий сугробами, продавливает наст, а вскоре уже бежит по ним во всю прыть, отчаянно утопая по пояс.
Виктор мучил себя, а чем мучил – он и сам не понимал. Посреди купе вдруг раскинулся сад, где и облепиха, и яблони, и спелая ирга. Возник бревенчатый дом, баня на пригорке, толстый лабрадор Стивен высунул язык от жары, и Владик играет мячом, и Маша, ей сейчас пять годиков, делает в песочнице куличи. А рядом Виктор, голый по пояс, копает компостную яму. И Женя, загорелая, в домашнем халате, похожем на платьице, поливает из большой лейки клумбу, где растут разные цветы, названий которых он не знает. Но они красивы, как красиво всё вокруг, но не так, как в Эрмитаже или в горах, где кружится голова и глазам тесно; не предписано красиво, а красиво потому, что это всё твоё, это ты такой, какой есть. Наверно, из-за этой красоты старики и слушали Виктора заворожённо, лишь изредка перебивая.