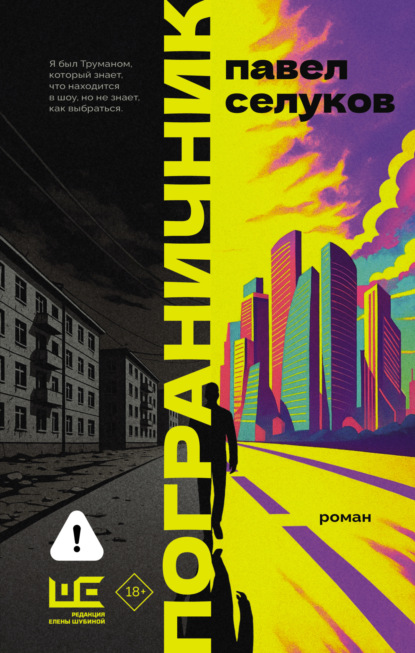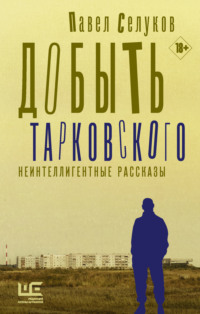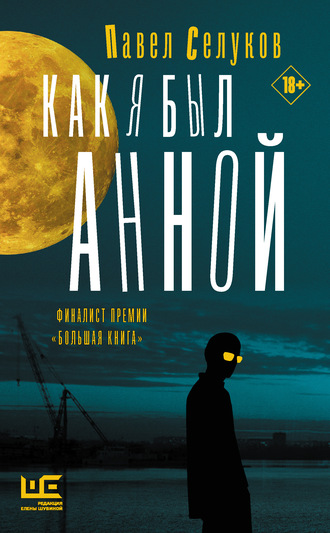
Полная версия
Как я был Анной
Собственно, трагедия заинтересовала меня и проникла под кожу не столько из-за нравственного конфликта, который, кстати, не всегда в ней и есть, сколько из-за красоты, из-за того, что красота – это предельное напряжение человеческих сил.
Я искал трагедии, как бедуин ищет оазис. Сначала я нашёл её в подростковой безответной любви, потом в бессмысленности бытия, позже – в незнании своего призвания. Вместо того чтобы жить равнобедренно, раздваиваясь лишь между семьёй и трудом, как выдумалось мне ещё в школе, я зажил рвано и дико, не умея заинтересовать себя надолго чем-либо, кроме нарушения границ и бегства от всякой жёсткой структуры, внешней или внутренней. Я физически не мог принять запретов, кроме, разве что, самых очевидных, вроде красного огонька светофора. Постепенно, не сразу, из человека, ищущего трагедии, я превратился в персонажа трагедии, а моя жизнь – в некое подобие пьесы. Многие люди играют роли бессознательно, свою я играл осознанно. В попытке достичь правдоподобия я не гнушался ничем. Я спасал девочку Катю, ту самую, с подорожником, от наркотической зависимости. Я даже придумал учёного Тома Уайдлера, который в начале 70-х специально подсел на героин, чтобы пройти дорогой выздоровления, вжиться в шкуру наркомана, побороть зависимость и, наконец, помочь другим сделать то же самое. Во мне всё переплелось. Я хотел переживать трагедию, хотел крайних состояний, хотел бунта и в то же время хотел служить людям, спасать их, бросить себя на алтарь, закрыть грудью дзот, самораспяться на кресте.
Всё это мне казалось большим. Точнее, только ради большого я хотел жить, и, конечно, сам себе я казался большим, но большим не был. На самом деле во мне поселилась червоточина, противоречие, потому что я хотел выйти из нормы, взять за руки отбившихся от стада и вернуть их к норме, хотя сам ей и не думал покоряться.
Чувство особости, сверхчеловечности, в духе Ницше, то ли из-за материнской гиперопеки, то ли из-за того, что памятью, умом и ловкостью я превосходил многих своих сверстников, рано поселилось во мне, направив помыслы в оригинальное русло. Я хотел другим того, что отвергал сам, и в этом желании был бесконечно лицемерен. К двадцати пяти годам я сменил с десяток профессий и почти растворился в наркотиках, алкоголе и азартных играх. Я стал плоским, неинтересным самому себе. Те, кого я спасал, или умерли или встали на ноги; я же копошился на дне, с каждым днём ощущая, как тают мои силы, столь необходимые для рывка. Лицо моей жены, молодой ещё женщины, всё больше напоминало библейский лик, так точно и глубоко проступили на нем росчерки горя.
Отчаявшись совладать с собой, я начал вести дневник. Я хотел обличить самого себя, нащупать хоть какую-то правду, обнажиться, дойти до сути, перестать играть и решиться жить. Знаю, моё повествование звучит горестно, но жизнь моя – ни тогда, ни сейчас – горестной не была. Скорее, она напоминала качели – то мерно раскачивалась, то вдруг замирала, а то рвалась из рук, взмывая «солнышком».
К тридцати пяти годам мой быт оформился в однокомнатную квартиру, доставшуюся мне от бабушки, двух котов, призванных заменить нам с женой детей, ведь настоящих детей я заводить боялся, и работу фрилансера, потому что только с неё меня не увольняли за периодические загулы. В тот день я лежал в кровати, рядом со мной лежали кот, кошка и выключенный телефон, потому что я снова пытался всё бросить, прекрасно понимая, что через три дня бросать резко передумаю.
Иными словами, жизнь шла своим чередом, кроме одного момента – я мучительно пытался понять, почему вечером я вполне разумен и творить безумие не хочу, а утром просыпаюсь без аппетита, «вздрюченным», как говорит моя жена, и мне вдруг становится противна жизнь, а внутри ворочается такая боль, что без водки и наркоты ее никак не унять.
Но я уже знал, что со мной творится. Путь к правде оказался извилистым – через реабилитационные центры, колдуна, одного экстрасенса и двух цыганок. Я лечился от алкоголизма и наркомании, как и предписывало общество, однако в глубине души я понимал, что они лишь следствие, причина в другом. Эту причину озвучил мне врач-психиатр – биполярное аффективное расстройство личности. Он же назначил мне таблетки, которые я отверг после первого же приёма, так они меня обесчеловечили. Болезнь моя оказалось запущенной, поскольку я уже пережил множество приступов без должного лечения. Я узнал об этом на той неделе. На секунду мне стало легче, а потом меня охватил ужас. Оказывается, я живу с этим расстройством с пятнадцати лет. Почти всю сознательную жизнь. И вся моя философия, поиски, любовь к трагедии – не что иное, как попытка затушевать болезнь, обратить её в мировоззрение и жест, накинуть пурпурную тогу на заурядную хворь.
Говорят, правда освобождает. Меня правда обескуражила. Выходило, что я не знаю самого себя, что я живу с посторонним человеком, больным человеком, которому подчинён. Как понять, какие поступки я совершил по своей воле, а какие под действием биполярки? Как отличить свои мысли от мыслей, нашёптанных болезнью? Я расползался на части. Но даже за этим по-своему честным расползанием я без труда угадывал свою лисью подлость. Она говорила мне – ты не плохой, ты не алкаш и не наркоман, возомнивший о себе, ты просто болен. В прежние времена я кивнул бы этим речам и прослезился, это ведь такая трагедия – психическое расстройство. Тут я ударился в воспоминания, силясь обнаружить в них истинно «своё», а не его, не биполярного чудовища. И я вспомнил. Вспомнил, как в детстве бабушка читала мне Библию с картинками и в какой восторг привёл меня маленький орга́н в нашей кирхе, нездешние его звуки. Свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней! Тогда я тянулся к светлому христианскому мифу и был счастлив. Сейчас я решил потянуться к нему снова. Вернуться туда, где я ещё был собой, а не воплощением болезни.
Как вы понимаете, действовать приходилось решительно – форточка ясности между депрессией и гипоманией вот-вот должна была захлопнуться. Жена уехала на дачу, поэтому я написал ей записку: «Уехал на юг проветрить голову. Поцелую за тебя ангелочков». Никаких ангелочков я целовать не собирался. Не собирался я и посещать арендуемый нами гагрский домик. Я ехал, вернее, летел в Новый Афон, чтобы принять постриг и стать монахом. Знаю, это неоргинально – уйти в монастырь. Многие люди, так или иначе, решались на это в бреду или в пылу. Но ведь бывает и так, что именно в клише кроется единственный выход. Это как с пафосом, который путают с напыщенностью и потому не прибегают к нему, хотя и стоило бы.
Я уже никого и ничего не стеснялся. Я купил билет, собрал вещи, сел в такси, затем в самолёт и через пять часов вышел из аэропорта Сочи, чтобы опять сесть в такси, доехать до границы с Абхазией, перейти её, нанять машину и доехать до Нового Афона.
Взбираясь по крутым ступенькам к монастырю, я отрывал от себя кровоточащую жену, кровоточащих котов, кровоточащую Пермь, которая отсюда, из пальм и эвкалиптов, из головокружительного воздуха гор, казалась мне милее всех городов мира, я хотел прижать её к себе и расцеловать в бетонные щёки. Но я не повернул назад. Монах, подметавший мощёный двор, отвёл меня к настоятелю. Это был жилистый, не старый ещё мужчина, с белой бородой на загорелом морщинистом лице и выцветшими, некогда синими глазами. Я сразу представил его капитаном яхты, который всматривается в даль в надежде увидеть землю. Настоятель выслушал меня внимательно. Его взгляд медленно скользил по моему лицу, от одной черты к другой, в глаза он не смотрел. Я рассказал ему всё, опустив лишь диагноз и затаил дыхание. Сейчас я услышу Слово. Настоятель сложил ладони на животе и тихо сказал:
– У вас биполярное аффективное расстройство. Оно развивается эндогенно, вне зависимости от внешних факторов. Конечно, ключом к ремиссии может быть триггер, но я бы рекомендовал сантиквель и андаловую кислоту. Видите ли, я в миру работал психиатром. Без должного лечения вы в монастыре не усидите, разве что в тюрьме. Болезнь у вас, судя по всему, запущенная, поэтому езжайте домой и пейте таблетки. Первые три дня как во гробе будете лежать, потом сорок дней тенью по пустыне ходить. Дальше станет легче. Ступайте с Богом.
Из монастыря я вышел слегка шатаясь. Зашатался я ещё, сидя перед настоятелем, где-то посередине его речи. Быть аватаром биполярки, стыдом самому себе я не мог, да и не хотел. Но я уже чувствовал – по щекотанию в носу, по непонятно откуда взявшейся энергии, по общей дерзости мыслей – биполярка рядом, мания стучится в двери, она зла и желает получить своё, как желает этого вода, сдерживаемая плотиной. Каждое мгновение, пока такси везло меня к гагрскому дому, я крал у чудовища его время, торопясь надышаться впрок, потому что скоро я начну задыхаться, утрачу сон и аппетит, думать забуду о сексе и благоразумии. Так бывает всегда накануне приступа, конца моей ясности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.