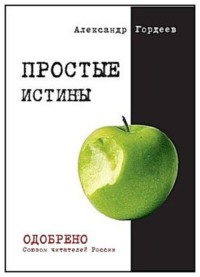полная версия
полная версияМолодой Бояркин
рублищем!
– Да у вас сознательность-то вообще есть?
– Должна бы быть, но ее почему-то нету! – крикнул Цибулевич, словно кого-то
обвиняя, и начал отворачиваться, потому что ему самому все это начало казаться смешным.
Игорь Тарасович и без того стоял с открытым ртом, но тут раскрыл его еще шире. В
это время раздался гудок – на совхозном тракторе подвезли цистерну воды для раствора.
Пингин оглянулся и, спасаясь от проблем, бросился руководить.
– Отцепи! – крикнул ему, высунувшись из кабины тракторист, которому было все
равно, кто тут начальник, кто нет.
– Цибулевич! – рявкнул Игорь Тарасович, показывая на цистерну. – А ну, сейчас же
отцепи!
Цибулевич повиновался.
Просьба прораба о продлении рабочего дня оказалась как бы забытой, но после нее
бригада работала молчаливей обычного. Занимались в основном кладкой. В конце дня Гена,
работавший на бетономешалке, спросил бригадира, сколько еще делать замесов раствора.
Топтайкин вопросительным взглядом обвел остальных.
– А-а, пусть мешают, – словно отмахнувшись, небрежно бросил Цибулевич.
– Давай д-четыре! – крикнул бригадир.
Все засмеялись и заговорили. Шуткой показалось то, что сегодня вместо обычных в
конце дня "один" или "два" послышалось "четыре", да еще так – "д-четыре". Игорь Тарасович
начал ходить на цыпочках, но на него не обращали внимания и работали как будто сами по
себе.
После работы все, уставшие, но довольные собой, сели на доски перекурить.
– Знаешь что? Приходи-ка к нам в общежитие вечерком, когда все угомонятся, –
сказал Бояркину Алексей Федоров. – Посидим, покалякаем. А то какой разговор на работе…
– Приду, – согласился Николай, обрадовавшись, что вечер не окажется пустым.
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
В общежитие к Федорову Бояркин пришел тогда, когда там уже укладывались спать. В
доме была веранда, на которой с оттепелью монтажники по вечерам наладились пить чай.
Николай сел за только что протертый, влажный стол и стал смотреть в окно, не видя в черном
стекле ничего, кроме своего отражения. Во дворе кто-то умывался, фыркая от удовольствия и
гремя плохо прибитым умывальником.
– Ну, так о чем пригорюнился? – войдя и поставив на электроплитку чайник с
капельками воды на алюминиевых боках, спросил Федоров.
– Да все о том же, – ответил Николай, убедившись, что Федоров усаживается прочно и
больше никуда не пойдет. – Думаю, утопия это все-таки или нет? Ведь на одну-то веру все
это принять непросто, особенно если вспомнишь некоторые современные события –
убийства, обман, пытки. Как можно восстановить миллионы людей, сожженных в
крематориях в войну, или несколько тысяч человек, зарытых в одну какую-нибудь траншею?
Читал недавно, как трупы сбрасывали в бетонную яму (это уже в наше время, кажется, в
Кампучии) и они, расплавившись от солнца, превратились в какую-то жидкость. И по этой
жидкости черви с хрустом гоняли белые черепа. Как же эту жидкость снова превратить в
людей? А как обратить в людей тех, кто такое с людьми делает, кто проповедует фашизм,
сионизм и прочее дерьмо? Это же и вправду невозможно, чтобы когда-нибудь потом все эти
люди жили вместе и были доброжелательны.
– Да, уж проблем у нас хватает… – согласился Федоров. – Тут и не только это. Человек
и сам по себе невообразимо сложен, чтобы его досконально понять, изучить для твоего
восстановления. Мне кажется даже, что он непознаваемо сложен. Мне однажды один человек
такую загадку загадал, что и до сих пор разгадать не могу… Бетонированная яма, говоришь…
Неужели, люди в жидком виде? Да уж, это картинка. Ты, видимо, много читаешь. А тут все
некогда. Все верчусь. Вот когда в больнице лежал, тогда почитал немного. Особенно
врезалась книга Уолта Уитмена…
– Кого? – с удивлением спросил Николай – очень странным показалось ему
иностранное имя на языке бородатого русского человека.
Федоров замолчал, глядя на сухощавого, загорелого монтажника, который, умывшись,
прошел мимо в плавках и пляжных резиновых шлепанцах. На Бояркина монтажник взглянул
с недоумением, не понимая, зачем он тут сидит.
– Книга американского поэта Уолта Уитмена, – пояснил Федоров, – называется
"Листья травы". Читал ее студент один – надо было по программе. Читал и ныл – тягомотина,
говорит. Стало мне интересно, почему в университетах тягомотину читают. Попросил
взглянуть. Что это за книга оказалась! Я никогда стихи не читал. Думал, не для меня они, что
ли… Но тут другое дело. Их написал такой же мужик, как я, только умнее, глубже. Запомнить
эти стихи трудно. Они рассчитаны на чтение, а не на запоминание. Зато, когда читаешь, так
твой взгляд словно расширяется. Я отлично понял его главную мысль – он сам умеет жить,
размышлять, видеть широко, и хочет, чтобы другие учились этому. Он подсказывает способ
расширения, но как бы и оговаривается, что у каждого это индивидуально – у него это
происходит так, а у тебя должно быть иначе. Он хочет, чтобы на него смотрели как на линзу,
которая все увеличивает, но сама остается невидимой. Я уж забыл, но, кажется, всю жизнь он
писал и переделывал всего лишь одну книгу. Видно, это было не для заработка. Да и
правильно – нет таких денег, какие бы соответствовали его заслугам. А деньги, между
прочим, тогда и исчезнут, когда от каждого будет вот такая, неоплатимая никакими деньгами,
отдача. А знаешь, что про Уитмена в предисловии написано? Написано, что он романтик. И
это за то, что он провозглашает: все в мире прекрасно, все излучает свою духовность. Но в
чем, где же тут романтика, если это правда? Хотел бы я поговорить или поработать где-
нибудь с этим романтиком. Должен быть мужик – во! И работать он должен уметь хорошо.
Романтик! Оскорбили, можно сказать, ни за что. Если бы твоя теория оправдалась… А ты
знаешь, ведь и у него есть что-то об этом, примерно так: "Я верю, что я снова приду на землю
через пять тысяч лет". Не ручаюсь, конечно, за точность, особенно относительно тысяч лет,
но что бы это значило, а?
– Не знаю, – сказал Николай. – Я запомню и постараюсь потом прочитать.
– Обязательно почитай. Тебе это будет очень полезно. У тебя же сейчас как раз период
множества проблем. Не думал, что это такое? Это время, когда отношения с миром
выясняются не на созерцательном, как в детстве, а на проблемном уровне. И в этот период
просто необходимо читать такое. А, в общем-то, на душе спокойно, когда молодежь
задумывается о подобном. Будущее сразу становится яснее.
Потом они говорили еще о многом. Бояркин выложил то, что думал о педагогике,
объяснил, почему не захотел учиться в институте и, пожалуй, впервые был по-настоящему
понят, хотя и не оправдан. Никогда еще у Бояркина не было такого мужского, серьезного
общения, когда откровенность, открытость и честность были полными. Они выпили целый
чайник, хотя с чаем был только черствый хлеб. Около трех часов ночи заявился Санька,
застывший на лавочке, потому что своим пиджаком ему пришлось греть Тамару. Трезвые
мужики, болтающие среди ночи, поразили его.
– Вот дают! – сипло воскликнул он. – Вы что, совсем опупели?
Тем и хорош был Санька, что не робел перед теми, кто пользовался авторитетом в его
глазах. Санька сразу же поставил на плитку новый чайник, надел телогрейку, захватив по
телогрейке обоим полуночникам, и тоже устроился за столом. В это время, воспользовавшись
откровением Алексея, Николай спросил о странных отметинах на его спине.
– Ох, не дают тебе покоя эти дырки, – сказал Федоров, грустно усмехнувшись. – Да я
уж и сам чуть ни начал о них сегодня рассказывать. Эта история до сих пор, хотя прошло уже
пятнадцать лет, и для меня самого какая-то психологическая загадка. Мне иногда кажется,
что произошла она не со мной, а вычитана из какой-то книги, где писатель не очень понятно
все пояснил. Был у меня друг – старый, надежный, одноклассник еще. Мы с ним всю жизнь
поддерживали связь, время от времени встречались. Я работал лесником, а он жил в городе.
И договорились мы с ним осенью сходить в тайгу за орехами. На моем участке кедровника не
было, и мы в назначенный срок съехались на одной маленькой станции. Были уже полностью
обмундированы, с ружьями, со мной еще кобель был – лайка Мангыр. Дружок пистолетом
похвастался – взял его так, для храбрости. Пистолет ему от отца остался – с войны еще,
трофейный. Поинтересовался, можно ли из этого пистолета медведя убить, если вдруг
нападет. Я сказал, что вполне можно. В тайгу мы зашли далеко. Там обычно не
разговаривают, но мы шли не охотиться, даже орехи для нас были не главным. Я впервые
вышел в тайгу ничем не озабоченным, вроде как специально полюбоваться на то, на что
раньше было некогда внимания обращать. Разговаривали, вспоминали. Я ему все про тайгу
рассказывал, насколько сам ее знал. И вот на третий день, когда пробирались через залом, я
поскользнулся на лесине, нога попала между стволов, я со своим тяжелым рюкзаком полетел
вперед и сломал ногу. Вот здесь, ниже колена. Слава богу, перелом оказался закрытым –
когда падал, под руки подвернулась молодая листвянка и смягчила немного. А иначе вообще
бы как палку переломил. Конечно, хуже этого не придумаешь, но когда я очухался и круги в
глазах прошли, то я даже богу помолился, что уж если суждено мне было в тайге ногу
сломать, так спасибо, что случилось это сейчас, когда не зима и когда я не один. Наложил мне
мой друг шину, костыли вырубил. Но из залома пришлось ему вытаскивать меня на себе. Он
был пониже, да похудее – туго ему пришлось. Ногу я сломал до полудня, а на более-менее
чистое место мы вышли уже в темноте. Мой друг от усталости на ногах стоять не мог.
Ночевали, как обычно, у костра. Ночью неожиданно выпал первый, но хороший снежок, и
нам показалось, что в тайге мы уже давным-давно. Он меня спрашивает: сколько будем так
выбираться? Я прикинул весь путь со всеми заломами, нашу скорость и сказал, что с неделю,
не меньше. Он говорит: "Ну, надо же… А я жене обещал вернуться восемнадцатого – день
рождения у нее. Волноваться будет, и на работе прогулов наставят". Я думаю, он шутит, и
тоже пошутил: ничего, мол, я тебе объяснительную записку выдам, что ты отличился при
спасении гражданина СССР – еще и медаль дадут. Ехал я на нем без особого стеснения. Он
мой друг, и, случись подобное с ним, тащил бы его я. В тайге всякое случается, и если уж
такое вышло, так сопи и делай что положено, сколько бы это ни продолжалось. На другой
день с рассветом мы прошли часа два. Редколесье кончилось – и снова широченный залом.
Если вы увидите когда-нибудь такие заломы, вы поймете, почему в древности города от
набегов лес спасал. А со сломанной ногой это почти непроходимо. Пробирались мы часа
четыре, даже телогрейки от пота промокли. Петя так устал, что потом, когда я смог на
костылях идти, зайдет вперед меня, упадет на спину, лежит и ждет, пока я доковыляю.
Прошли так еще часов пять с перерывом на обед – и на тебе, снова залом! Мы возвращались
другой дорогой: думали короче. Года за три до этого там был сильный ветер и навалил
деревьев. Петя помог мне сесть около осинки, а сам отошел куда-то в сторону. Я задремал
немного, и вдруг слышу, как он за моей спиной говорит: "Прости меня, Леша". Я хотел
оглянуться, и тут меня в плечо вдруг что-то как хлестнет! Будто большим лиственным
поленом изо всей силы. Я сначала даже ничего не почувствовал и не испугался, а просто
удивился – откуда здесь, так внезапно, такая сила? Оборачиваюсь, а это Петя в меня из своего
пистолетика стреляет. Держит его вот так, навытяжку, в обеих руках, как ковбой, и
постреливает в спину, да так старательно, как будто каждую пулю еще специально руками
подталкивает. С двух шагов всего. Я мог его даже костылем зацепить. Я даже слова не сказал,
только посмотрел на него и как будто заснул. Сколько времени провалялся в этом сне не
знаю, только услышал вдруг: мой Мангыр воет. Я глаза открыл, осмотрелся – темнеет.
Пошевелился, Телогрейка на спине напиталась кровью и запеклась коркой, но ощущение
такое, будто со спины кожу сняли, даже какая-то эфирная легкость в ней – до того все горит.
Смотрю, Мангыр немного прихрамывает, а на том месте, откуда Петя стрелял, куски ваты и
листья со снегом перемешаны. Пистолет там же валяется. Видимо, после выстрелов Мангыр
бросился на Петеньку – охотничья собака выстрелов не боится… Для меня все это было
концом света – даже не в физическом смысле, – тут я сразу поверил, что если очнулся, значит,
подохнуть себе не позволю, а в моральном, что ли… Вспомнил это его прощание: "Прости
меня, Леша". Что же это выходит? Ни с того ни с сего он посылает меня, молодого и
здорового, на тот свет, да еще и прощения по-дружески просит, будто случайно на ногу
наступил. Ничего я понять не мог. Может быть, он обессилел и поддался какой-то иллюзии,
что так мы вообще никогда не выберемся, или, может быть, он действительно не хотел
волновать свою жену и решил поскорее вернуться, или, действительно, так боялся прогулов
на работе? А, может быть, у него уже нетерпение было, как у зека, который не может
перенести нескольких часов до свободы и совершает побег. Но непостижимей всего было для
меня одно: где он взял силу, чтоб решиться убить человека, тем более меня – лучшего друга?
Ведь вместе со мной надо было убить все свое детство, считай, половину своей жизни,
половину самого себя. Да случись все наоборот, я бы такое испытание за честь принял. Стал
я вспоминать, о чем мы говорили часа за два до этого, и еще сильней поразился – ведь он не
как-нибудь случайно стрелял в меня (хотя как это можно – случайно?), он готовился заранее,
потому что спросил, храню ли я его письма и знает ли кто у меня дома об этом походе. Я и не
подозревал, что все вышло как нельзя лучше для него: письмами в то время я обычно печку
растапливал. И в этот раз дом оставил на замке. Жена с ребятишками за неделю до этого к
матери в гости уехала, и я хотел вернуться раньше ее. Корову доить попросил соседку, да и
ей ничего не объяснил. Даже, наоборот, сказал, что я на своем участке буду – пусть, кто надо,
побаивается, не шалит. Выходит, я сам свои следы замел. Думал и о том, что, может быть,
ненавидел он меня как-нибудь тайно. Так вроде не за что. Вот и получается, что стрелял он в
меня просто так. Тащить меня ему явно не хотелось. Убежать было страшно – тогда его бы
всю жизнь кто-то презирал, да не кто-то, а лучший друг, а это тяжело. Так не проще ли
просто взять да и вычеркнуть этого лучшего друга. Человек все равно должен когда-нибудь
умереть, так велика ли беда, если он умрет чуть-чуть пораньше. И ему, Пете, стоит только
сделать над собой усилие – и он через минуту будет свободен, пойдет налегке, и презирать
его потом никто не будет. И найти его не найдешь – уж тут гарантия. Ну, может быть, еще и
алиби какое существовало. Вот и вся арифметика. Я даже и не предполагал, что такие случаи
бывают. Бывают, конечно, только в них свидетели не предусматриваются, чтобы некому было
удивляться такой невероятности. А я вот нарушил правило и поэтому понять ничего не
могу… До чего же бывает темна душа у человека… Полз я больше двух педель и все об этом
думал – и плакал, и злился – все было, но все равно полз. Счет времени я потерял, потому что
полз и ночью, и днем, а спал, когда отключался. Просто полз всегда, когда чувствовал, что
могу ползти. Мне и сейчас не верится, что все это происходило со мной. Я почти ничего не
помню. Желание выползти было у меня, как инстинкт. И желание понять произошедшее тоже
было, как инстинкт – как будто это могло меня тоже спасти. Иной раз мне тогда даже не
верилось, что меня почему-то хотели убить, и что этого хотел Петя. Я настолько привык
верить в его дружбу, что не находил в себе ненависти. Но если до меня доходило, что все это
так и есть, что мой Петенька – это подлец, какого свет не видел, то я, кажется, полз в два раза
быстрее. Самое трудное было с едой. Сначала я собирал оставшиеся ягодки голубицы,
брусники. Они были как водяные шарики и не восстанавливали сил. Мой Мангырчик от меня
не убегал – он-то, наверное, кормился какими-нибудь зверушками. Наконец, я понял, что
если я не поем хорошо, то уже не смогу двигаться. Я подманил к себе Мангыра, погладил его
и заплакал. Он стал слизывать слезы. Я поговорил еще с ним немного, потом осторожно
вытянул нож из ножен, навалился всем телом и перехватил горло. По предательски,
понимаете, по предательски… Но мне надо было выжить.
Федоров замолчал и стал смотреть в черное стекло. Санька зашвыркал оставшийся
чай из кружки.
– Не люблю я рассказывать эту историю, да и редко кому рассказываю, – через минуту
сказал Алексей. – После всего этого я уже никакую собаку завести не мог.
– А пистолет? – спросил Санька. – Лучше бы застрелить.
– До пистолета мне было, – даже с обидой усмехнулся Федоров. – Я и ружье там же
бросил. Нож был на ремне – он и остался. Даже спичек не было.
– Ох и сволочь же он! – сказал Санька, стукнув кулаком по столу. – И где он только
этот пистолет раздобыл?
– Да я уж говорил – еще от отца – трофейный, немецкий.
– Вот я и говорю, что у того, кто с оружием, всегда руки чешутся…
– И чем же все это кончилось? – спросил Бояркин.
– Выполз я к одной маленькой деревеньке. Как раз к вечеру. Возле леса начинался
огород – почему-то запомнил, что прелой ботвой пахло. Накануне снова снежок выпал, и в
огороде грязища стояла. Пробороздил я по нему на брюхе, и около самого крыльца опять не
то заснул, не то сознание потерял. Меня почему-то не особенно обрадовало, что я до людей
дополз. Во-первых, знал, что все равно доползу, а во-вторых, мне было уже все безразлично.
Подобрали старик со старухой – повезло мне с этим. Содрали с меня все, в бане помыли и
положили на кровать. Я им сразу все честно рассказал и попросил до милиции не доводить.
Милиция защищает беззащитных, а мне хотелось самому что-нибудь интересное, свое, для
Пети придумать. Лечился я долго. Старуха настоящей знахаркой оказалась, даже как будто
рада была все свои знания показать. Травами меня пичкала, и я у нее многому, кстати говоря,
научился. К моему счастью, все пули прошли навылет сквозь шкуру с мышцами. Только
одна, видимо самая первая, застряла, но тоже ничего не раздробила. Старуха ее как-то
выдавила, как чирей. Так что отделался я, как в сказке, хотя и пришлось поваляться. Позже я
старику ружье хорошее подарил. Ну, выздоровел, ходячим стал и уехал домой. Жене,
конечно, все рассказал, но попросил, чтобы не болтала. Да можно было бы и не рассказывать
– у нас тогда отношения-то уже пошли наперекосяк. Стал думать, что же мне со своим
другом сделать. Адрес его известен. Думаю, может быть, для начала как ни в чем не бывало
открыткой с Новым годом поздравить? Или лучше телеграммой – так, чтобы ее в двенадцать
часов вручили и чтобы он от приятного удивления прямо около елки в штаны наложил.
Потом думаю: нет, лучше в гости съезжу и буду вести себя так, как будто я никуда с ним не
ходил, или как будто у меня этот поход из памяти выпал. А главное, позвоню и буду с
улыбочкой ждать, как дверь откроется. Но это тоже не подошло: на такую игру у меня бы
актерских данных не хватило. Планов было много. Один интереснее другого. Но я так ничего
и не выбрал. Однажды даже специально приезжал в город. Сел у подъезда на детской
площадке, а он с женой под ручку пошел куда-то, что-то про билеты говорили – в кино,
наверное. Даже интересно – ведь живет же человек, как и жил. Мне хотелось окликнуть его,
повернуться спиной и спокойно пойти – узнал бы он мою спину или нет? Или обогнать их, а
потом пройти мимоходом и поздороваться или, наоборот, сделать вид, что это не я, что я
совсем другой человек, да спросить, где находится ближайшая парикмахерская. Но ничего
этого я не сделал. А не сделал потому, что и тогда еще не постиг до конца всю ситуацию…
– И что же, ты все так и оставил? – с нетерпением спросил Санька.
– Так и оставил, – сказал Алексей.
– Да ты что?! – воскликнул Санька, подскочив с места.
– Да не ори ты! – осадил его Федоров. – Весь народ поднимешь.
Санька с досадой махнул рукой и сел.
– У меня какой-то стресс произошел. Очень уж я "удивился". Не поверите, но тогда я
почему-то даже курить и выпивать бросил. Даже и теперь я все еще не знаю, сообщить ему о
себе или нет? Я еще не знаю, что ему легче – знать, что он убил своего друга, или то, что этот
друг выжил и знает о его подлости? Интересно, какой груз тяжелее? Жаль, что я не вижу, как
он ест, спит, разговаривает с женой. На улице я его иногда встречаю. Но меня он с такой
бородой не узнает. Раньше-то я брился.
– Так он что же, живет в нашем городе? – вытаращив глаза, спросил Санька.
– Он даже работает на том же нефтекомбинате, где работаете вы и я, – засмеявшись,
сказал Федоров, – Но я никогда не слежу за ним специально. Слишком много чести. Да и на
нефтекомбинат-то я устроился случайно. Просто знал это предприятие больше всех – опять
же по Петиным рассказам. Ну, а если честно, то почему-то не хотелось мне его из виду
терять… Но это так – не главное.
– А где он работает? Какие у него особые приметы есть? – допытывался Санька. – У
нас есть один подозрительный – может быть, он-то и есть.
– Он тебе что, рецидивист, особые приметы иметь? Он вполне обыкновенный. Есть у
него маленькая бородавочка на самом веке, но мимоходом ее не заметишь…
– У нас на установке есть один с бородавочкой, – задумчиво проговорил Бояркин, но
вовсе не совмещая того, которого вспомнил, и того, о ком рассказывал Федоров. – Его зовут
Петр Михайлович Шапкин.
Санька смотрел светящимися глазами. Николай взглянул на Алексея и осекся – тот
смотрел испуганно и не мигая.
– Ну нет, того не так зовут – это просто совпадение, – твердо, словно что-то внушая
Бояркину, сказал он.
– Да чего тут темнить, – горячо наступал Санька. – Скажи прямо, где он работает. Мы
не выдадим себя, только взглянем на него.
– Лучше расскажи, ты хоть на прощание уяснил, где у твоей Тамарки самые
аппетитные места? – спросил его Алексей и тут же сообщил Бояркину: – Все, улетает наш
орел – вызов из Владивостока ему сегодня переслали… Ну, так уяснил или нет? Будет что в
плаванье-то вспоминать?
– Ну, опять начал, – недовольно пробурчал Санька, отстраняясь от стола и краснея, –
надоел уже.
– Надоел. Тебя, молодого, не научи, так ты все перепутаешь.
– Да ну тебя… А то без тебя не знаю.
– Да ты сиди, сиди. Я тебе сейчас еще кое-что поясню…
Как только Саньку с немалым трудом удалось спровадить за дверь, Алексей
повернулся к Бояркину.
– Так ты что же, разве на десятимиллионке работаешь?
– Да. И даже в одной бригаде с Шапкиным. Что, неужели это он?
– Эх-х! – сдержанно воскликнул Федоров. – Надо было сначала хоть спросить, где вы
работаете, прежде чем болтать. Понадеялся, что из двенадцати тысяч человек… мала
возможность.
– Бородавочка у него на нижнем веке, кажется, левого глаза, – сказал Николай, все
еще не веря в совпадение. – Но ты рассказывал, что тот худой был, а этот ничего, справный
такой…
– Худой… Так что тут поделаешь, мы же все стареем, меняемся. Да, невероятно, но это
он и есть – мой Петенька – Петр Михайлович, как ты его назвал.
Некоторое время они растерянно молчали.
– Ну, ладно, – тихо сказал Федоров, – может быть, и хорошо, что ты его знаешь –
поможешь разобраться. Как он тебе?
– Если это он.... Если действительно у Петра Михайловича есть такое прошлое, то
напрасно ты ломаешь голову над якобы какой-то его загадкой. Шапкин трус, и больше
ничего.
Николай рассказал о том, как Петр Михайлович убежал с установки во время аварии,
хотя мог бы пригодиться как один из опытных старых операторов.
– Что ж, может быть… – задумчиво проговорил Алексей. – Простое-то чаще всего и
непонятно.
– Слушай-ка, а не пугнуть ли мне и в самом деле моего Петеньку, если, как ты