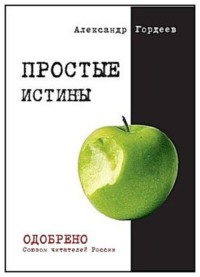полная версия
полная версияМолодой Бояркин
сам знаешь, что у меня с физикой, да и с другими предметами. Но дело даже не в этом.
Несерьезно у меня с этим летным. Идти-то надо не туда, где красивее, а туда где от тебя будет
больше толку. Гриня Коренев пошел в ветеринарный техникум, и это понятно почему.
Понятно, почему Генка думал о школе милиции. Ты хочешь в музыкальное – у тебя талант. А
я? В моей голове действительно воздух – ни с того ни с сего – летное. Я вот что подумал: у
Генки же было серьезное намерение, так? Но почему же оно должно пропасть из-за какого-то
Кверова? Конечно, Кверова мы боялись, но, в сущности-то, кто он такой? С такими надо
бороться. Вот я и сделаю первый шаг. А в школу милиции, наверное, и физика не сдается.
– Да-а, – произнес Игорек, задумчиво покачивая головой, – складно подвел. Однако ты
умеешь себя поворачивать. Я бы так не смог.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Первая в жизни поездка на поезде за три часовых пояса захлестнула лавиной
впечатлений. Это было серьезное, независимое ни от дня, ни от ночи перемещение в
громадном поезде на массивных колесах, с мягкими полками и пластиковыми столиками.
Поначалу, после неумелого прощания с родителями на перроне, Николаю в этой обстановке
показалось мучительно одиноко. Он посидел на боковом сиденье, потом насмелился влезть
на полку, и полка, ласково покачивая его, понесла, наконец, из привычной, надоевшей жизни
в другую, счастливо-неизвестную жизнь. В эту жизнь он устремился и по собственной тяге, и
по авторитетным напутствиям бабушки Степаниды, и по наставлениям городских учителей,
особенно последней – классной руководительницы Ирины Александровны. Никогда потом
Николай не будет настолько далек от той простой истины, что самое дорогое место для
человека – это то, где он родился и вырос. Уезжая, молодой Бояркин думал, что для него
навсегда кончилось это село, которое началось еще, когда, по преданиям старых людей, "царь
надумал Сибирь осваивать". Основателями его были двенадцать солдат с семьями, которым
двадцатипятилетнюю службу заменили вечным поселением. Помнились несколько фамилий
первых переселенцев и среди них – Бояркины. Позднее на обжитое место начали сселять
отбывших каторгу и политических. Одновременно в округе возникли и казачьи поселения
для перехвата беженцев, которых в Забайкалье называли "батхулами". Однако даже те
двенадцать семей солдат были не первыми здешними жителями. Должно быть, они и сами
гадали, что это за каменные плиты торчат из земли в виде прямоугольных коробок? Лишь
недавно, в наше время, поработали там археологи и оставили у наибольшего скопления плит
табличку:
Могильник.
3 – 2 век до н. э. охраняется государством.
Как видно, древним было это место – одно из тех, где люди живут всегда.
Проспав с полчаса, Бояркин положил подбородок на руки, и стал смотреть в окно на
тянувшиеся горы, поля и перелески. Так проглазел он до вечера, а, проснувшись утром, снова
уставился в окно, с удивлением обнаружив, что земля стала какой-то гладко-неуютной. Это
была равнина, которой он никогда не видел. С утра же Николай начал напоминать себе, что
впереди экзамены и сейчас не время бесполезно таращить глаза. Он ругался и все-таки не
мог оторваться от окна до тех пор, пока от долгого лежания не начало ломить голову. К тому
же надо было сходить в туалет и умыться.
В туалете, в зеркале, Николай в первое мгновение не узнал себя. Прямо на него
смотрел молодой растерянный человек, с чуть продолговатым лицом, с бритыми несколько
раз и снова прорастающими усами. Он ли это? Его ли это вчера провожали родители? А
правильно ли все то, о чем он раньше думал, мечтал, кто он вообще такой? Оказавшись без
знакомого поддерживающего окружения, Бояркин с ужасом осознал свое полное
беспомощное растворение в новом непривычно мире.
На нижних полках в его купе располагались два старика. Еще лежа наверху, Бояркин
прислушивался к ним. Одни говорил тяжелым, прокуренным басом. Голос другого был
легкий и ироничный. Басом говорил старик с плоской редкой бородой. Судя по разговорам,
он вез из Забайкалья целебный мужик-корень. Другой старик был с усохшим морщинистым
лицом. 0н постоянно оглаживал клетчатую рубаху, застегнутую до самого колючего
подбородка. Этот последний, которого звали Прокопием Ивановичем, был знатоком всего,
начиная от засолки огурцов и кончая обстановкой в Китае, которой не знал никто. Он
постоянно посмеивался над бородатым попутчиком. Если они играли в карты, то ссорились и
надолго замолкали. А потом снова начинали с карт.
Когда Николай вернулся из туалета, их дела приближались к очередному перемирию,
и появление молодого попутчика помогло этому. Объединившись, они расспросили: как
зовут, кто родители, откуда, куда и зачем? Накормили его. Николаю пришлось пользоваться
их добротой, потому что взять продукты из дома он наотрез отказался, ехать с харчами ему
показалось стыдным, уж как-то совсем по-деревенски. Чтобы отблагодарить стариков,
Николай пошел к проводнице за чаем, и, когда принес стаканы в подстаканниках, то
оказалось, что старики уже опять поссорились.
После обеда бородатый пошел в туалет, где была небольшая очередь. В это время по
радио сообщили, что в стране осуществлен запуск космической ракеты с человеком на борту.
Тут же пошли песни и стихи. "Это сумма всех наших стремлений, это сумма усилий всех
плеч", – торжественно декламировалось из динамика.
Бородатый вернулся, уже обсудив с кем-то такое радостное событие и приготовив
новый неожиданный вопрос – как устроена в ракете уборная? Уж на этой-то проблеме его
ученый попутчик должен был сломать себе шею.
Прокопий Иванович пригладил рубашку на груди и стал излагать такое, что Бояркин
зафыркал, а молодая, хорошо одетая женщина на боковом сиденье поспешила в другое купе.
– Ну, ты и загнул, – сердито сказал бородатый, – уж не знаешь, так молчал бы,
болтун…
Через полчаса старик стащил с багажной полки рюкзак с широкими походными
лямками.
– Сын должен встретить, – сказал он Николаю, не замечая посмеивающегося
Прокопия Ивановича.
Теперь он начал внимательно всматриваться в окно, отыскивая знакомые приметы,
когда же вагон пролетел по гудящему железному мосту, поднялся и надел простой клетчатый
пиджак, на котором оказались три ряда орденских планок и отдельно два ордена Славы.
Прокопий Иванович засуетился, схватил рюкзак и, задыхаясь от его неожиданной
тяжести, помог вынести в тамбур. Николай тоже пытался помочь, но в узком проходе только
мешал.
– Где воевал-то? – перекрикивая скрип тормозов, спросил Прокопий Иванович у
бородатого в тамбуре.
– В Белоруссии, под Смоленском, в Польше. В разведке, – ответил тот.
Поезд остановился, и он вышел на промазученый гравий какой-то маленькой,
утонувшей в зелени станции. С платформы к нему шел высокий мужчина в мотоциклетном
шлеме и в забрызганных грязью сапогах.
Через две минуты поезд тронулся. Пока Прокопий Иванович и Бояркин пробирались к
своему купе, промелькнуло название станции.
Вечером они сидели друг против друга за маленьким столиком, смотрели в окно и
думали каждый о своем. Лицо старика в последних отсветах солнца казалось грубым и
бугристым, как ласточкино гнездо. Непонятно было, куда исчезла его насмешливость.
– Леспромхозовский я, – вдруг сообщил он, – правда, уж пятый год на пенсии.
Старуха, слава богу, есть. Внуков и детей уйма. Одна дочь в Ленинграде. Приглашают жить к
себе. А мы деревню любим, задумчивость, в общем. Жить-то ведь надо так, чтобы успевать
соображать, что живешь. В Ленинграде, к примеру, или в Москве все бегут как угорелые.
Бегут, бегут… Остановиться бедным некогда. Едят-то прямо на ногах в магазинах.
– В кафетериях, – с улыбкой уточнил Николай, которого сейчас как раз и притягивало
это "бегут".
0н вообразил светлый и прекрасный город, в который приедет. Сначала пойдут старые
маленькие, даже скособоченные домики, которые постепенно сменятся высокими и
светлыми. Маленькие домики портили всю картину, а вот если бы, как в ворота, сразу
вкатить в настоящий город… Николай даже вздохнул взволнованно.
– Зря я над ним смеялся-то. Он ведь фронтовик, орденоносец, – говорил между тем
Прокопий Иванович, – а вот у меня по-другому вышло. Нас, леспромхозовских, вначале
взяли на войну, а потом вернули. Девки да бабы в нашей работе слабоваты. Тяжело было –
тоже мурцовочки-то хлебнули… Война, она ведь по всей территории была, хотя сам-то фронт
только с краю… Это уже в пятидесятых годах один военкоматовский увидел мой белый билет
и говорит: ты же, мол, здоровый как бык. Ох, я и выдал ему! Они же сами мне этот билет
всучили. Сколько я ходил, уговаривал. Но, с другой стороны, и они правы – надо было кому-
то лес валить. А как по справедливости – кому нужно было на смерть идти, кому нет? Как тут
рассудить? Вот у тебя деды есть?
– Нет, – ответил Николай. – Одного в сорок первом убили, другого, кажется, в сорок
втором.
– Н-да-а, – напряженно пошевелив губами, пробормотал старик. – Вот тут и
разберись… Если бы я погиб на войне, то не было бы моих шестерых девок. И внуков бы они
не нарожали. Но, может быть, твой дед тогда остался бы, и у тебя теперь было бы больше
родни. Ты, конечно, и не думал об этом, а я на пенсии только о таком и думаю. Самое-то
страшное в войне то, чего мы не понимаем и даже не можем по-настоящему понять. Страшно
то, что сейчас не живут люди, которые не родились. И тут по справедливости не разберешь,
кто должен был погибнуть, кто нет. Никто не должен бы – вот и весь сказ. Но ведь погибли, и
надо как-то это объяснить.
К вечеру они остались в купе вдвоем, и Прокопий Иванович мог говорить, даже когда
улеглись.
– У нас ведь тоже трудно было. Мы когда, добровольцами собрались, так нам говорят:
от трудностей бежите. Народу у нас и вправду не хватало. Лес валили в одиночку. Брата
моего старшего лесиной насмерть зашибло. Как ударило, только кровь из ушей, и все. И меня
цепляло. Сюда вот, погляди-ка…
Весь день старик говорил об одном и том же, и Бояркин притворился спящим.
– Да что я могу рассказать, – вздохнув, еле слышно пробормотал Прокопий Иванович,
– я это что… Тебе бы того, с орденами, послушать. А слушать-то надо, а то вы, молодые,
сейчас как бы в аванс живете. Вот и ты, друг мой Колька, кто ты есть сейчас? Человек – не
спорю. Две руки, две ноги и голова. Так ведь, люди сразу с такого начинались. А ты вот
сейчас едешь в поезде, глазеешь себе туда-сюда. И одет, и обут, и все в твоем распоряжении.
А ведь это не всем давалось, не всем. Так чем же ты от других отличаешься? Да ничем, Но
только все, что ты имеешь и видишь кругом-то – это все в аванс. Эх, полка-то… полка-то…
Прямо готовый матрас. Хорошо жить стали. В космос летаем, А ведь на ракеты много
надо было силы накопить. Они ведь вон какие мощнющие. Какую свою силу в дело
вложишь, такой силы это дело и есть. Может, и от моей силенки там немного…
Бояркину было неудобно, что старик говорит так откровенно, но потом догадался, что
с какого-то момента он просто думает вслух, и даже слова "друг мой Колька" сказал для себя.
Можно было, конечно, и вникнуть во все, но до того ли?
Николаю понравилась атмосфера длинной дороги. Как здорово было видеть леса,
поля, города, такие одинокие и беспомощные перед широтой пространства станции и
маленькие полустанки. Как хорошо показалось ночью, в полусне, ощутить мягкие толчки
тормозов, заметить в купе яркие вспышки проносящихся прожекторов, услышать голос
сильных станционных динамиков, а днем увидеть залитый солнцем незнакомый перрон,
людей с чемоданами, которые съехались на этот железнодорожный узелок или, напротив,
разъедутся сейчас в свои села, поселки, города, о которых ты даже не слышал и, возможно,
никогда не услышишь. Разве могло это быть каким-то авансом, который якобы возможно
оплатить?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Первый же экзамен в школу милиции Бояркин завалил. Оценки стали известны
вечером, и ему разрешили ночевать в общежитии еще ночь. На другое утро Николай с
чемоданом вышел на крыльцо и нырнул в парк через дорогу. Минут пять просидел на
скамейке, ни о чем не думая, лишь "согласуя" себя с новой обстановкой.
По тому, что особого расстройства от провала не было, Бояркин должен был признать,
что, несмотря на слои возвышенные рассуждения, ехал он сюда не столько для того, чтобы
поступить в училище, сколько для того, чтобы остаться в городе. Он, может быть, и приехал-
то именно сюда лишь только потому, что здесь была прочная подстраховка – здесь, в этом
городе, жил материн брат Никита Артемьевич, который после армии не вернулся в Елкино.
Да, да вот это и было главным. Николай вспомнил, как два дня назад вечером он из окна
седьмого этажа общежития увидел изгиб одной из самых великих сибирских рек, с длинным
мостом, по которому цепочкой тянулись зеленоватые, загадочно мерцающие огоньки. По
набережной стояли высокие дома, от которых в летней бархатной темноте остались лишь
разноцветные квадратики окон. В кино такое выглядело несравненно бледнее. "Кровь из
носу, но надо поступить", – пронеслось тогда в голове, но эта-то мысль и выдавала желание
во что бы то ни стало зацепиться в городе. Хочешь, не хочешь, а признай, что все-таки ты
несерьезный, глупый гражданин.
В парке были широкие развесистые деревья, под которыми утром держалась
прохладная свежесть, но свежесть особенная – городская, парковая. За витой оградой
проводами и моторами гудела улица – напряженное русло сложной, цветистой жизни.
Бояркин уже знал, что в полдень улица станет пыльной, знойной и страшно многолюдной.
Он подхватил чемодан и подошел к старику, сидящему на соседней скамейке,
– Дедушка, растолкуйте – как добраться? – спросил он, протягивая конверт.
Старик разъяснил, а Николай записал все в блокнот.
Пассажиров в автобусе было мало, и постепенно Бояркин вместе со своим чемоданом
продвинулся к водительской кабине. Верткость большого автобуса показалась ему даже
непонятной. Поразительной была скорость встречных и обгоняющих машин, поразительна
смелость или дурость пешеходов, снующих перед самыми колесами,
Первая жена дяди Никиты была из Елкино. Она приехала к нему, когда у дяди
закончилась служба. А пять лет назад попала под большегрузный автомобиль. Два года назад
дядя снова женился. Эту жену звали Анной, и никто из сельских родственников еще не видел
ее.
Водитель автобуса мимолетно через зеркальце взглянул на Бояркина, приникшего к
стеклу, но тот на его внимание успел разулыбаться. Водитель взглянул на него уже поцепче и
с недовольным видом стал смотреть на дорогу.
На переезде через железнодорожную ветку автобус долго стоял, пропуская длинный
состав с трелевочными тракторами, с черными цистернами и оранжевыми иностранными
контейнерами, с желтыми бочками на колесах с надписями "квас". Все городское движение
пережидало другое движение, какое-то еще более обязательное. Куда и зачем все это шло?
Жизнь была многомерна, независима, непонятна. Как в ней тяжело разобраться! И что значил
в ней ты – абитуриент-неудачник…
Николай так и не дождался, когда водитель объявит его остановку. В растерянности
выволокся он на конечной остановке и, увидев цифру на боку своего автобуса, обнаружил,
что он ехал совсем не в том автобусе – у парка он как-то умудрился их перепутать. А тут
были другие маршруты, и справка старика была бесполезной – надо было снова у кого-
нибудь спрашивать. Николай долго стоял и, наблюдая за людьми, пытался угадать человека
поненасмешливей. Выбрал, наконец, одного полного, в шляпе, медленного, задумчивого.
– Извини, парень, спешу, – ответил тот.
Николай вернулся на свое место, то есть на тот пятачок, на котором оказался, выйдя из
автобуса. "А все же это плохо, когда никого не знаешь", – решил он. Потом Николай
обратился к высокому курчавому парню в очках и с простым пузатым портфелем.
– Так тебе надо было в поселок Северный, – сказал парень, разобравшись, в чем дело,
– а ты попал в Аэропортный. Это совсем другой конец. Садись на семьдесят третий автобус и
как раз без пересадок доедешь до своей остановки.
Оказалось, что теперь надо ехать еще дальше. Улицы, улицы, остановки, перекрестки,
светофоры – разве можно во всем разобраться? А ведь есть города и побольше, но это уж
совсем страшно…
Дома у дяди Никиты оказалась только Олюшка – двоюродная сестренка. Она училась
в четвертом классе, но, к удивлению Бояркина, сразу по-хозяйски захлопотала, поставила
чайник на газовую плиту, а брату предложила освежиться в ванной.
Никогда еще Николай не погружался с головой в горячую воду. Красота! В воде
становились слышными, как в наушниках скрипы, шипение, щелчки большого дома. В ванне
после путешествия по городу было так хорошо и спокойно, что даже шевелиться не хотелось.
Никита Артемьевич, предупрежденный Марией, встретил его шумно, с крепкими
объятиями. Несколько покровительственно он уже заверил сестру, что в любом случае
пропасть племяннику не даст. Практичный Никита Артемьевич имел трехкомнатную
кооперативную квартиру, дачу, "Запорожец" (пока "Запорожец"), чем и гордился перед
сельской родней. Почему бы ему еще и племяннику не помочь?
Вечером сидели за столом, накрытым в комнате с люстрой. Свежий воздух был в этой
здоровой семье культом, и все широкие окна, выходящие к акациям и кленам около дома,
были распахнуты. Квартира походила на просторную веранду. Никита Артемьевич
вслушивался в полузабытый елкинский говорок, засыпал гостя вопросами и смеялся.
Красивая городская жена наблюдала за ними с улыбкой, открывая в муже что-то новое.
Разгорячившись вином и разговорами, дядя позвал племянника во двор, на перекладину.
Бывая в отпуске в Елкино и загорая на Шунде, Никита Артемьевич любил удивлять
ребятишек ходьбой на руках. Смолоду он занимался гирями и гимнастикой "В армии у меня
был закон, – рассказывал дядя, – куда бы ни шел, мимо перекладины просто так не проходи.
Хотя бы перелезь через нее".
Николай гордился дядей и еще с детства помнил его рассказы о многочисленных
драках с блатными волосатиками, которых он бил так, "что только гитара бренчала". И здесь
вокруг него сразу собрались ребятишки. На него, начавшего выделывать выкрутасы на
перекладине, стали с завистью оглядываться доминошники, устроившиеся под грибком.
– А ну-ка, теперь ты попробуй, – спрыгнув, сказал Никита Артемьевич.
– Пока воздержусь, – с улыбкой, признающей дядино превосходство, ответил
Николай.
Никита Артемьевич сделал еще три захода и, хлопнув племянника по плечу,
направился в подъезд. Николай был счастлив от этого хлопка.
– Будешь жить у меня, – сказал дядя перед сном, – до службы поучишься в ГПТУ на
электромонтера. После службы попробуешь поступить еще раз.
– Хорошо, – не задумываясь, согласился племянник с этой программой.
Учеба оказалась еще скучней, чем в школе. К тому же в школе был Игорек Крышин и
другие ребята. А со своими теперешними товарищами Бояркин никак не мог сойтись.
Большинству из них тоже надо было протянуть до армии. После занятий они бесследно
растворялись в городе, а на уроках трепались или стреляли из резинок. Самые серьезные
подремывали или играли в "морской бой", Бояркин, если было совсем скучно, читал газеты,
для чего в перемены аккуратно складывал их по столбикам и прятал в карманы.
Больше всего ему нравилась эстетика и сама эстетичка – высокая, длинношеяя, с
медно-рыжими волосами. Увидев ее, Николай понял, что женщин можно разделить на тех,
кто умеет ходить и тех, кто не умеет. Говорили, будто у Ольги Михайловны есть муж и сын,
но Бояркину из-за ее походки не хотелось верить, что она может жить так по-человечески
просто, как другие.
Лишь программа эстетики показалась Николаю интересной: музыка, картины, книги,
рассуждения о виденном и слышанном. Однажды Ольга Михайловна посоветовала сходить в
музей на юбилейную выставку местного художника Алексеева.
На выставке Николай стал ходить от картины к картине и смотреть так, как учили. И
вдруг возле одной он словно приклеился. На картине было разваленное сено, на котором,
покуривая трубочку, сидел не кто иной, как один елкинский старик – Пима Танин.
"Заливаешь, как Пима Танин", – говорили в Елкино тому, кому не верили. Но тому, кто не
хотел ехать на сенокос, обещали: "Там будет Пима Танин". Днем Пима работал плохо,
увиливал. Его настоящая работа начиналась вечером у костра, когда он рассказывал смешные
небылицы. Темы подсказывали слушатели, и Пима не отказывался даже от самой
невероятной. Одно условие было у него – чтобы не смеялись. Если смеются, значит, не верят.
А не верят, так и рассказывать незачем.
Обычно слушают его, давятся от смеха, убегают в сторону, чтобы прохохотаться. А
если кто из пацанов соберется хихикнуть, тот тут же получит подзатыльник от кого-нибудь из
взрослых мужиков. Но хохоту после этого подзатыльника бывало еще больше – его уже
ничто не держало, а Пима завернется в телогрейку и заснет. История останется без конца. И
просить бесполезно.
Бояркин тоже бывал на сенокосе, тоже слушал Пиму, и теперь у него захватило дух от
всплывших в памяти запахов костра, сена, конского пота. Он как будто услышал
пощелкивание сучков в костре, хруст влажной, вечерней травы на зубах у коней,
неторопливое размеренное кваканье лягушек на недалеком болоте.
На сене за спиной деда лежал еще парень в красной рубахе. Этот не напоминал
никого. Николай, посмотрев по сторонам, направился было через весь зал к старушке-
смотрительнице, сидящей на стуле, но вернулся и стал приглядываться снова. Вообще-то
Пима Танин курил не трубку, а газетные самокрутки, хотя тут дело художника. Но уж, зато
взгляд-то его хитрющий не спрячешь.
– Вам что, молодой человек? – подойдя, спросила смотрительница, заметив какой-то
особенный его интерес.
– Да так… Дед тут знакомый. Не знаете, в каком месте художник эту картину
нарисовал?
Старушка подошла ближе и некоторое время с интересом разглядывала старика, как
будто проверяя, не знаком ли он ей самой.
– Да кто ж его знает, – ответила она, – у художника и спроси.
– Я? У художника?
– Напиши ему в книгу отзывов. Он ее по утрам просматривает.
Николай сел у маленького столика и стал читать отзывы. Поколебавшись, написал:
"Понравился старик в картине "Минута отдыха". Кажется, я его знаю. Напишите,
пожалуйста, в каком районе и в какой области вы его срисовали".
Потом Бояркин пришел через два дня. Ответа в книге не было. Спросил у знакомой
смотрительницы.
– Пойдем, я покажу его автопортрет, – отчего-то невесело сказала она и пошла в
другой зал.
– Ага, я его уже видел, – сказал Бояркин.
– Это его последний прижизненный портрет…
– Почему прижизненный?
– Вчера ночью Павел Петрович умер…
После этого Бояркин снова обошел все картины. Теперь он смотрел и думал не как
учили, а по-своему. Он думал, что за каждой картиной длительные годы работы. А за всеми
вместе – большая, нужная людям жизнь.
Выйдя из музея, Николай ощутил в себе порыв броситься по набережной и бежать
очень долго. Чувствовать, что уже не можешь, но ни за что не останавливаться… Жить так,
как он, – ходить шажком, дремать и почитывать газетки на уроках – нельзя. Нельзя, потому
что ни мелких шажков, ни дремоты, ни пустых мечтаний после тебя не останется. Вот в чем
дело. "Черт возьми, да почему же я не поступил в школу! – вдруг мучительно пожалел
Бояркин. – Осел, я, осел! Да ведь я же ничто! Меня вовсе нет!"
На другой день после занятий Николай нашел Ольгу Михайловну и сказал ей о смерти
Алексеева. Она уже знала, но ее тронула солидарность ученика, который был, пожалуй,
единственным из всей группы, кто по ее совету побывал в музее.
– Кажется, у тебя в городе нет друзей, – сказала она, – тебе нужен хороший товарищ. Я