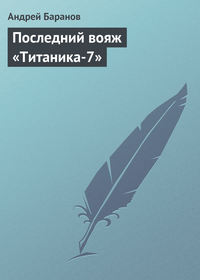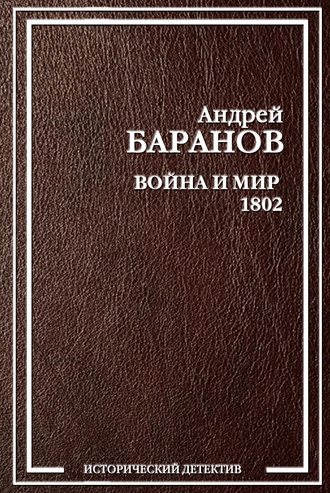
Полная версия
Война и Мир – 1802
Однако же иногда приходилось и воевать. Павлоградские гусары не преминули побывать в серьезном деле, и отиравшийся около них граф Г. не без интереса услыхал от штабных о подвиге генерала Раевского, командовавшего гренадерами, ранее отправленного из армии в отставку Павлом но с началом войны спешно в нее призванного, который будто бы вывел под страшный огонь одного или двоих своих детей, несмотря на их малый возраст. Зза обедом граф пересказал эту историю Морозявкину.
– Вот ведь болван, – отозвался на это приятель, дожевывая скудную трапезу из петуха по-походному, сваренного вместе с перьями и картошкой над костром. – Все равно там такая суматоха, что никто кроме десятка человек вблизи не видел ни его детей, ни его рвения, да и те кто видел думал о своей шкуре, а не о чужих дитятях. Тоже мне нежные родительские чувства.
– Вот и я думаю то же самое, да уж не стал возражать, – ответствовал граф, – я уж имею опыт, ведь такие рассказы способствуют прославлению нашего оружия. Чуть усомнишься – сразу прицепятся.
– Ага. Кстати под меня уже подтекает… дождь что ли пошел? Тут недалеко корчма, а там симпатичная жена полкового доктора, тоже немка, как и Гретхен. Сидит как королева, а все офицеры вокруг нее прыгают, а уж когда она вечером запирается в кибиточке со своим доктором, то там такое творится – все бегают подглядывать, а потом ржут как кони без причины… пойти что ли туда?
– Фи, там же полно гусар, любителей кобыл, – отозвался брезгливый граф на это заманчивое предложение, – а ты скучаешь по Гретхен?
– Есть немного!
– Ну ничего, скоро пороховой дым повыбьет из тебя все эти глупости! – молвил граф пророчески и был весьма прав.
Уже на следующий же день началась небольшая баталия. Граф, будучи знатоком и охотником, заранее раздобыл себе не паршивую фронтовую, а правильную донскую казацкую лошадь, крупную и добрую, не хуже гусарских любимых кобыл, ехать на которой было одно наслаждение. Граф думал о лошади и о докторше, которую успел уже приметить краем глаза, о том кто из них привлекательнее, и будучи весьма волевым напрочь отогнал от себя чувство опасности. Проезжая с Морозявкиным между березами, он лихо ломал ветки, легко дотрагивался ногой до паха лошади и с жалостью смотрел на приятеля Вольдемара, которым овладел словесный понос. Морозявкин говорил и говорил, не в силах остановиться, но граф знал, что поможет тому только терпение и время.
Впереди неожиданно послышались выстрелы орудий, и прискакавший адъютант графа Толстого приказал эскадрону гусар идти на рысях. Эскадрон объехал пылящую пешкодралом пехоту и батарею. Поднявшись на гору, лошади взмылились, а Морозявкин покраснел.
– Стой, равняйся! – заорали отцы-командиры.
Справа стояла в резерве наша пехота, ну а впереди показался неприятель, с которым уже весело перестреливалась передовая цепь. Битый час простояв на месте, гусары должны были наконец покакать в атаку вслед за уланами. Пехота вздвоила взводы дабы пропустить кавалерию, двинувшуюся на англичан. Началась канонада. – Тра-та-та! – хлопали выстрелы. Уланы налетели на английских кавалеристов, оранжевые уланы на рыжих лошадях резко контрастировали с «красными мундирами», как показалось графу, привыкшему на все смотреть с эстетической точки зрения. Однако же англичане стали теснить наших конников, что было недопустимо.
– А не вдарить ли нам сейчас по этим гадам? – осведомился граф у гусарского ротмистра, с которым они вчера как раз раздавили полдюжины трофейного шампанского. – А, Севастьяныч?
– А и в самом деле, лихая будет штука! – отозвался ротмистр.
Граф Г. тронул лошадь, так и просившуюся вперед, и возбудившуюся от выстрелов как и ее хозяин. Весь эскадрон, испытывавший то же что и он, тронулся за ним, с рыси они мигом перешли на галоп, свистели пули, всадники летели под гору. Услышав дикие крики «атуихумать», английские конники с перекошенными физиономиями стали разворачивать лошадей, через минуту конь графа Г. взял на абордаж, если так можно выразиться, намеченную им жертву, врезавшись своим передком в задок чужой лошади.
Сам граф, тоже желая внести лепту в победу, рубанул британца-всадника шашкой, тот пытаясь выпростать ногу из стремени закричал «I suгrender!», морща свое белобрысое типично британское лицо, даже не боевое, а какое-то комнатное. Гусары со всех сторон начали возиться с британцами, которые хотя и были в большинстве своем ранены, но упорно не давались. Некоторых гусарам приходилось увозить в плен захваченных, сажая их на крупы своих лошадей. Поглядев на эти противоестественные «сладкие парочки», граф Г. испытал какое-то неприятное чувство.
Граф Толстой, встретив вернувшихся с победой гусар, поблагодарил их и отдельно пообещал Михайле георгиевский крест. Британец, которого тот рубанул, был не так уж и ранен, и встречал своего пленителя графа притворно-сладкой улыбкой. «Да они ведь боятся насилия еще больше нашего, так зачем сюда приперлись?» – подумал граф и несколько дней ходил хмурый и оставался недоволен Морозявкиным, жизнью и начальством.
* * *В Москве между тем среди городского населения распространялись самые дикие слухи. Говорили что у Веллингтона миллионное войско, что скоро сам император наконец-то приедет из неудачливой армии в святую столицу, что будет воззвание и манифест, но пока что Петербург пал, Смоленск сдан, и Россию спасет только чудо.
За чудом разумеется нужно было обращаться к богу. Для этого случая в Москве имелось множество церквей, в одну из которых пришла набожная Лиза Лесистратова. Несмотря на свою былую близость к Тайной экспедиции, о боге она также никогда не забывала, стараясь поддерживать хорошие отношения и с ним тоже. Она уже успела доложить результаты своей невыполнимой миссии у англичан государю, и теперь как статс-дама обязана была разведать обстановку в Москве, дабы подготовить императорский визит туда. Отдав ряд необходимых распоряжений и наведя всюду порядок, на досуге в воскресный день Лиза решила посетить церковь.
Придя в жаркий день к обедне, она увидела в соборе множество роскошной знати. В воздухе разливалась летняя истома. Ливрейный лакей мигом растолкал толпу, дабы дать пройти «ее высокопревосходительству». Лесистратова оглядела туалеты дам, осудила их за излишнюю распущенность и глупую манеру мелко креститься, а услыхав звуки службы церковной, ужаснулась тому что на службе родине ей почти совсем потеряна нравственная чистота.
– Ах, зачем я коварно переспала с господами А. и Б., и велела допрашивать с пристрастием господ В. и Г.? – думала она, раскаиваясь. – Неужели необходимые для блага отчизны сведения нельзя было добыть иным, более пристойным, более божеским путем? А господин Д.? Он отправился из-за меня на эшафот, а Е. и Ж. – на каторгу… Ах, как жаль! Научи меня, господи, что мне делать, как мне исправиться, как быть с моей жизнью в конце концов…
Под торжественную читку дьяконом молитвы она стала молиться за воинство, за плавающих и путешествующих, вспоминая графа Г., с которым была когда-то коротко знакома и которого приказала потом бросить в подвал по одному лишь подозрению в заговоре против государя и едва не запытала до смерти, она вспомнила даже смешного, нелепого, но в сущности трогательного Морозявкина, который ползал пред ней на коленях и так ее боялся. Она молилась чтобы бог простил ей то зло, которое она им сделала. Лесистратова молилась и за любящих, и даже за ненавидящих, за царскую фамилию и за Синод, предавая себя божьей воле.
Однако в середине службы в нарушение прекрасно известного Лизе порядка священник в бархатной скуфье неожиданно стал зачитывать свежеполученную молитву из Синода о спасении России от враждебного нашествия.
– Владыко господи, укрепи благочестивейшего и самодержавнейшего великого государя нашего императора Павла Петровича, помяни его кротость, воздаждь ему по благости его, ею же хранит ны, твой возлюбленный Израиль, – читал священник неотразимо действовавшим на русскую аудиторию напевным голосом. – Враг смущаяй землю твою и хотяй положити вселенную всю пусту, восста на ны; еже погубити достояние твое, разорити честный Иерусалим твой, возлюбленную тебе Россию: осквернити храмы твои, раскопати алтари и поругатися святыне нашей. Доколе, господи, доколе?!
В том состоянии душевной раскрытости, в котором сейчас находилась Лиза, она пребывала крайне редко. Ей было трудно перестроить свою душу сразу и просить бога о попрании врагов, когда она за пять минут до этого истово умоляла об их и своем прощении. Однако же она просто не могла не верить молитве, хотя только что священник давал совсем другие показания, то есть указания.
– Яви нам, господи, ныне милость твою и спасение твое даждь нам; возвесели сердце рабов твоих о милости твоей; порази враги наши, и сокруши их под ноги верных твоих вскоре! – читал священник, и Лиза мысленно соглашалась и с этим тоже.
– Рано раскаиваться – надо воевать, воевать как можешь, мечом и крестом, коварством и женской хитростью, – мыслила она, сжимая кулачки, что в другое время в церкви сочла бы грехом. – Мы еще их всех опрокинем в море, утопим в балтийской ледяной купели! И слава богу.
– Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь, – докончил молитву священник.
* * *В это время многие гуляки со средствами, ранее праздно шатавшиеся по столице целыми днями, почувствовали что надвигается катастрофа, способная положить конец их вольному существованию. Они по-прежнему ездили в общество, кутили, вели жизнь праздную и рассеянную. Однако же с театра войны приходили все более тревожные слухи. Московским главнокомандующим стал граф Ростопчин, поразительно быстро возвышавшийся в последнее время. Он раздавал всем желающим в большом количестве воззвания государя к москвичам и приказы по армии, а также свои собственные афиши. Все говорили о шпионах, о том что дела в армии хуже некуда, а англичане займут обе столицы еще до осени. Многие горожане надели мундиры и стали проповедовать патриотизм направо и налево, так что их старые знакомые только диву давались.
Пересказывали тот случай, когда к Ростопчину приволокли немецкого «шампиньона», а он его отпустил, сказав что если всякий гриб сажать то никаких оранжерей, то есть казематов, не напасешься. Знать старалась не употреблять английских слов даже в Английском клубе, и многие князья, привыкши к англицизмам, вынуждены были брать учителей дабы учиться выражать мысли на русском языке.
Вышел наконец и государев манифест. В нем, обращаясь к первопрестольной столице Москве, говорилось что неприятель с великими силами пришел разорять наше любезное отечество, и сие для нас неприемлемо. Также говорилось и о надеждах, возлагаемых государем на Москву, на ее знаменитое дворянство, о том что он сам не умедлит стать посреди народа своего в сей столице для руководствования ополчениями, и о том что погибель обратится на главу врага, а освобожденная от рабства Европа несомненно еще возвеличит имя России. Многие дворяне, прочитав его, тут же соглашались ради блага отечества всем пожертвовать и ничего не пожалеть.
Государя встречала в Москве целая толпа – все со зверскими лицами работали локтями, дабы лицезреть первое лицо, и кричали «Ура!» Купчихи называли Павла I «ангелом», в которого он недавно и впрямь чуть было не превратился. Все рыдали, в духоте некоторые теряли сознание. После посещения собора государь обедал во дворце, и барон фон Залысовский, прислуживавший ему за столом, не преминул посоветовать выйти на балкон к ждущему народу и бросить им немножко «бесплатных слонов», то есть пирожных. Государь последовал этому совету, и в давке за царским лакомством задавили немало народу, что заставило фон Залысовского пробурчать себе под нос загадочную фразу «Таки да, история повторяется».
В дворянском собрании все из кожи вон лезли чтобы переплюнуть купцов, которые ворочали миллионами, и обещали поставить под ружье по десятку человек с тысячи, что казалось неслыханной щедростью. Все старичье влезло в мундиры, старые екатерининские и новые павловские, так что зрелище было еще то. Некоторые впрочем опасались что от ополчения будет одно разорение и нужно произвести пожалуй новый набор в армию. Робкий голос здравомыслия, говоривший что следует наперед спросить у государя сколько все-таки у нас есть войска и в каком положении очутилась армия, заглушался ура-патриотическим хором, кричавшем что за родину не пожалеют ни крови, ни чего-либо другого, и не время рассуждать и нести всякие бредни, а время всем идти воевать за царя-батюшку. Говорилось также, что Москву конечно сдать придется, но зато она станет искупительницей.
Перед визитом Павла I к собравшимся вышел граф Ростопчин, еще раз подтвердивший, что придется не щадить ни себя, ни ополченцев. Скорым шагом в залу вошел Павел, и уже в первом его слове «господа» послышалось нечто человеческое, чего казалось уже и не приходилось ожидать. Он призвал всех к действию, не теряя времени, причем был столь любезен, что отдельно поговорил и с купечеством, отчего малочувствительные откупщики даже зарыдали, умоляя его взять и их жизнь и имущество. Впрочем на следующий день они сами удивились тому что наделали, согласившись на пожертвования.
Между тем колесо войны неумолимо катилось, с каждым днем приближаясь все ближе к древней столице. Веллингтон с Нельсоном, выполняя волю короля Британии, желали сделать Россию своей новой колонией наподобие Индии и из дикой отсталой страны превратить в цивилизованную. Павел I чувствовал себя лично оскорбленным, и потому не желал вести никаких переговоров. Граф Г. помчался в атаку на британцев потому что ему очень хотелось проскакать на новой лошади под горку. Все участники этой войны действовали вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей. Провидение заставляло всех этих различных людей работать на один огромный результат. Британцы не были готовы к зимней кампании, к ожесточению народа, к партизанской войне, и весьма опасно растянули свою линию.
Государь делал упреки командующим буквально за каждый шаг отступления, причем упреки эти выражались сначала в форме весьма резкой, к которой подданные уже привыкли и за которую они чуть было не прикончили не так давно своего императора. Павел с бешеным лицом ходил перед вытянувшимися во фрунт седыми генералами, и распалясь хлестал их по толстым щекам перчатками и стеком. Услышавши об оставлении Смоленска, перед которым врагу не дали даже сколько-нибудь значительной битвы, и о том что город был сожжен, он даже было хотел расстрелять трех генералов перед строем, но опамятовался и просто лишил их царской милости в виде обычного ужина. Впрочем и сами военачальники и вообще русские люди начали уже негодовать ввиду столь значительного отступления.
Факты говорят, что Веллингтон не предвидел никакой опасности ни в продвижении на Москву, ни за ее пределы. Впрочем и русские вовсе не намеревались заманивать англичан. Все происходило как бы нечаянно. Наши армии ловко отходили от англичан и друг от друга из-за взаимной неприязни генералов, командующих ими, Кутузов к тому же имел еще тайную мечту удалиться как можно дальше от государя, исполнившуюся только когда тот воспользовался предлогом и уехал к населению Москвы. Поэтому войска отступали сложным извилистым маршрутом со множеством острых углов, чем-то напоминавшим эпический поход Ивана Сусанина с польским конвоем.
Император, находясь при армии, вместо ее предполагаемого воодушевления только путал всем карты. Энергия действий уничтожалась, Павел и сам это чувствовал, но причины понять не мог. Наконец видя что дела идут вкривь и вкось, и объяснив это для себя тупостью и неспособностью генералитета, подводившего своего государя на каждом шагу под монастырь, он бросил попытки модернизировать на ходу ленивую армию, так и не перестроившуюся по прусскому образцу, и уехал в Москву, что немедля утроило силу русского войска.
Однако же и тут возник плюрализм мнений, и не было кворума. Барклай-де-Толли желал осторожности, цесаревич призывал дать генеральное сражение, Багратион писал доносы лично государю на военного министра Аракчеева, а самому Аракчееву – на всех остальных. В Смоленске, несмотря на интриги и раздоры, англичанам неожиданно дали сражение, однако же все равно пришлось отступить, несмотря на тысячи убитых с обеих сторон. Разоренные жители Смоленска вдобавок сами сожгли свой же собственный город и толпами ринулись в Москву, думая только о своих потерях и совершенно не заботясь о том рады ли москвичи понаехавшим, что еще более разжигало ненависть у московских обывателей как к оккупантам, так и к провинциалам. Веллингтон шел все дальше, а мы отступали.
Между тем граф Г. составил очередную реляцию князю Куракину о положении дел в действующей армии и общем ходе событий. Он писал:
«Милостивый Государь
Князь Александр Борисович
Я полагаю что министр уже доложил об оставлении Смоленска. Больно и грустно, вся армия скорбит, и я тоже. Клянусь честью, что британцы были в мешке, но мы так и не затянули узел. Я верю главнокомандующему как самому себе, почти как Вам, но отчего же мы отдали так много земли нашего доброго Отечества этим сволочам? Чего трусить-то? Флигель-адъютанты более преданы Веллингтону с Нельсоном, чем нам, вся армия ругает их насмерть. Я схожу с ума от досады, остается только проявлять чудеса личной храбрости. Отступаю вместе со всеми, повинуясь только из любви к государю и Вам, моему благодетелю, а иначе устроил бы партизанскую войну, и по крайней мере мы не потерпели бы такой ретирады. Войска дерутся как никогда, а мира никакого нам не надобно – война до победного конца! Простите что дерзко пишу – зато то что думаю. Правду говоря, надо готовить ополчение, ибо мы мастерски ведем за собой гостей.»
В салонах Москвы и Петербурга, временно переехавших в Москву, в одних распространялись, а в других опровергались слухи о жестокости врага, впрочем все сходились на том что Кутузов кроме неприятностей ничего не дал государю. Князь Алексей Куракин, брат вице-канцлера, вспоминал о своих предупреждениях в Дворянском собрании, когда он уверял что Кутузов разочарует государя.
– Да он и верхом сесть не умеет! Слепой, дряхлый, самых дурных нравов. Он ничего не видит, хоть в жмурки с ним играй. Разве можно такого назначать в такую минуту?
На это решительно никто не возражал. Однако когда Павел авансом неожиданно произвел Кутузова в фельдмаршалы и ясно было что он останется командующим армией несмотря на все предыдущие неудачи, тот же князь Алексей заявил, что Кутузов теперь не просто главнокомандующий а другой самодержец, и что теперь главное, чтобы он никому не позволил вставлять себе палки в колеса, и никто уже не напоминал ему о его прежнем мнении.
* * *Однако же прошедшие Смоленск британцы двигались все ближе к Москве. Веллингтон и Нельсон, что называется носом землю рыли, отыскивая себе сражений пожарче, Они желали сражаться и у Вязьмы, и у Царева-Займища, но русские упорно не шли навстречу их желаниям. Видя что делать нечего, британские командиры отдали приказ о движении прямо на Москву, к центру азиатской страны, не дававшей им покоя, почти как Индия.
На переходе к Москве произошел забавный случай. Генерал Веллингтон ехал верхом на своем англизированном, как и следовало ожидать, иноходце. Все время сопровождавший его Нельсон несколько отстал, так как с одной рукой ему было нелегко удерживаться на коне, но потом догнал и сообщил, что поймали пленного казака.
– Well? – поинтересовался Веллингтон.
– Это казак Платова, возможно он вас позабавит. Говорит что Кутузов не хочет сражаться ни при какой погоде, – ответствовал Нельсон коротко, по военно-морскому.
Веллингтон улыбнулся и велел дать этому казаку лошадь и привести к себе. На самом деле казак этот был никакой не казак, а не кто иной как наш старый знакомый Вольдемар Морозявкин, отбившийся от графа Г. при одном особенно быстром отступательном переходе, а точнее говоря бегстве гусар. В деревне он погнался за гусями, которых очень любил в жареном виде, и так, за мародерством, и был пойман английскими пехотинцами. Морозявкин где-то раздобыл денщицкую куртку и модное французское седло, и теперь с пьяной физиономией, еще более плутовской чем обычно, подъехал к Веллингтону.
– You are a Cossack? – вопросил английский генерал.
– Я-то? Да конечно казак, а кто же еще? Я есаул! Иез, сэр! – ответил Морозявкин молодецки подкрутив ус и зачем-то почесал огромный шнобель.
Вольдемар сразу распознал Веллингтона и особенно Нельсона, которого учитывая его физическое увечье не узнать было невозможно, Как человек хитрый и видавший всякие виды, он нисколько не смутился, так как присутствие британских генералов смущало его не более чем общество графа Г., которого он ни в грош не ставил. Терять ему было нечего, кроме своих цепей да кисета с пахучим табаком.
– А как вы, русские, думаете, победите вы Веллингтона с Нельсоном или нет? – спросил его Веллингтон, притворяясь будто он – это не он, а кто-то совсем другой.
Морозявкин призадумался, видя что тут есть какая-то тонкая хитрость, и молчал чуть ли не четверть часа, в продолжении которого англичане успели выкурить по сигаре.
– Нет, ну если сражение прямо сейчас, так сказать без прелюдий, так само собой. Ну а если скажем денька через три, то на этом сражении мы так оттянемся что никому мало не покажется.
Веллингтону перевели это так, что сражение нужно давать поскорее, иначе только бог, наш создатель, может знать что произойдет. Он несмотря на свое веселое настроение не улыбнулся и решил проверить реакцию казака на громкое имя того, кто был перед ним.
– Да знаешь ли ты, кто стоит перед тобой? Это же сам генерал Веллингтон, гроза Европы и покоритель Индии, который сшибал головы раджей как кегли в боулинге! – объяснили Морозявкину переводчики.
Вольдемар притворился, что прямо ошеломлен.
– Да не может такого быть! Значит вы из Индии и прямо сюда? Из огня да в полымя? – переспросил он. – Веллингтон всех в мире побил, сие нам известно, и вместе с Нельсоном это боевой сухопутно-морской тандем… да про нас другая статья, – неизвестно зачем прибавил он патриотическую подковырку и замер.
Британцы решили, что былая болтливость была полностью вытеснена чувством молчаливого восторга. Веллингтон хмыкнул, и несмотря на то что Морозявкин показался ему даже привлекательнее Лизы Лесистратовой, велел наградить его несколькими фунтами денег и отпустить как маленькую птичку колибри в родные джунгли.
Уже скоро отпущенный Морозявкин поскакал на аванпосты, нашел настоящих казаков, выспросил где теперь стоят гусары, а где расположилась штаб-квартира всей армии и сам Светлейший, ожидая найти там поблизости графа Г., и действительно вскорости с ним воссоединился. Граф Г., как раз совершавший конный вечерний променад с ротмистром, дал другу Вольдемару лошадь и вновь взял его с собой. Хотя обычно Морозявкин рассказывал графу о своих приключениях, на этот раз он решил скромно промолчать, считая что такая мелочь как встреча с главными оккупантами земли русской недостойна его рассказа.
* * *По пути к Москве графу Г. пришлось совершить еще один маленький подвиг. Лиза Лесистратова как раз решила навести порядок в своем свежеподаренном подмосковном имении Волосатые холмы, а также провести оттуда эвакуацию. Это было как раз то имение, которое ей подарили за беспорочную службу, не слишком далеко от первопрестольной, причем направление она выбрала сама. Ранее оно принадлежало какому-то старому князю, большому упрямцу, который совершенно не верил в возможный приход неприятеля и утверждал, что далее Польши никакой захватчик никогда не продвинется, и хотя и умер но успел внушить свою веру мужикам.
Между народом явно происходило волнение и противно тому что творилось в округе Волосатых холмов, где все крестьяне сматывали удочки и уходили (предоставляя хозяйственным казакам разорять свои деревни), в имение Лизы доходили слухи что нашлись крестьяне, которые имели тесные сношения с британцами, получали какие-то бумаги, ходившие между ними, и оставались под оккупантами.
Ездивший на днях с подводой мужик Поликарп, имевший большое влияние на мир, возвратился с известием что проклятые миродеры-казаки разоряют деревни, из которых выходят наивные жители, но что британские «жинтельмены» их не трогают, а другой мужик вчера привез даже из села Кособрюхова бумагу от генерала британского, в которой поселянам объявлялось, что им не будет сделано решительно никакого вреда и за все что у них возьмут на нужды британской армии и флота заплатят втройне. В доказательство того мужик привез из Кособрюхова сто фальшивых, но очень похожих на подлинные рублей ассигнациями, выданных ему щедрыми британцами авансом.
Собрав все свое недавно ввезенное имущество, Лесистратова уже готова была отдать приказ грузиться и ехать. Однако тут же на ее пути возникли непредвиденные трудности в виде православного населения, не желавшего бросать свои дома и уезжать навстречу неизвестности. Как донесла Лизе ее личная агентура в лице старосты и управляющего, у кабака, обычного места сборищ деревенского бомонда, состоялась сходка, где решено было не давать госпоже подвод и вообще угнать лошадей в лес.