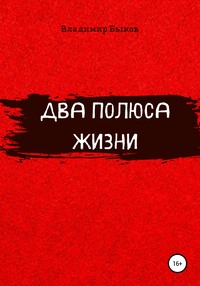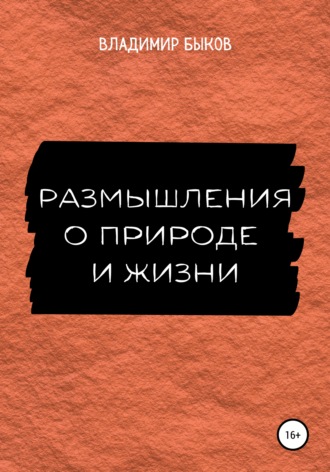 полная версия
полная версияРазмышления о природе и жизни
По ассоциации со сказанным о Волкогонове.
Подобного же происхождения, ненависть (только не к Ленину, а к Сталину) продекларировал нам Хрущев в своих «Воспоминаниях».
Всю жизнь пресмыкающийся перед Сталиным живым, он облил его какой только можно грязью. Причем преподнес так, будто его, Хрущева, при этом не было и сам он, стоя тогда у власти, ничего о сталинских грехах не знал, не ведал и чуть ли даже не слышал. И все это преподнес в виде несусветной полуобывательской, лишенной логики болтовни,.
Его «Воспоминания» в этой части свелись к «упорному доказательству» его «незнания». Вот «Микоян знал… он был ближе к Сталину». Кроме Микояна «наиболее информированными об истинных размерах и причинах сталинских репрессий были Молотов, Ворошилов, и Каганович… Сталин с ними обменивался мнениями». Для «многих же из нас (к которым Хрущев здесь причисляет Маленкова, Булганина и, безусловно, Первухина, Сабурова и других!) подобные сведения были просто неожиданными»… Беспардонная ложь и сплошная демагогия. По человечески понятная и вполне объяснимая животная месть и ненависть к Сталину.
Письмо Путину
«Уважаемый Владимир Владимирович! В начале 2002 года я направил Вам по электронной почте письмо с рядом проблем и своими предложениями по их устранению. Оно было рассмотрено вашей Администрацией и признано, что поставленные мною вопросы «являются одними из самых наболевших и находятся в центре внимания» как лично Вас, так и вашей Администрации, что они «постоянно находятся на контроле российского руководства…и учитываются… в повседневной работе». Сейчас, по прошествии двух лет, мне хотелось бы отметить, насколько это признание было подтверждено практическими делами, насколько они отвечали мною ожидаемым от них конечным результатам.
Начну с оценки положения в стране и моих многочисленных «Почему…».
Нельзя сказать, что за прошедшие два года ничего не изменилось в лучшую сторону. Однако в целом, продолжается распродажа и грабеж созданного трудом при советской власти. Средства по-прежнему вкладываются больше в то, что определяет «витринное благополучие», прежде всего, на потребу богатого ее меньшинства, а не в то, что нужно для устойчиво-надежного состояния всего общества. Государство уходит от руководства хозяйством, а решения правительства остаются на том же уровне: либо наивно-утопических ожиданий, либо прямого обмана себя и народа. Упомянутый Уралмаш во всевозрастающих масштабах подвергается «реструктуризации» и распродаже при неизменном, естественно, снижении производства и своих технических возможностей.
В стране нет порядка, царит беззаконие и материальная безответственность юридических лиц за элементарные отклонения от общепринятых правил. Мы продолжаем больше слышать о грабежах, убийствах, о всяких нарушениях, открытии новых уголовных дел, судопроизводстве и почти ничего о наказаниях.
Фактически остаемся заложниками финансовых афер, спекулятивных махинаций, монетарных представлений об экономике, грабительской приватизации, прежде всего, добывающих и энергетических отраслей народного хозяйства и отраслей средств производства, определяющих независимость страны.
Сохраняется недопустимая дифференциация в доходах населения, которая бы, казалось, исходя из предшествующих ей «исходных условий», должна государством быть резко ограничена, а не наоборот, когда, словно в утверждение сей «недопустимости», сохраняется, как я отмечал, никому неведомый доселе одинаковый для всех налог на доход. Разве он отвечает интересам государства и народа? Разве он, под придуманной якобы лучшей его собираемости, не облагодетельствует целенаправленно все тех же господ, одержимо настроенных на обогащение?
Мы отказались, наконец, от жизни страны на подачки и в кредит. Но зато теперь заняли другую, странную и разорительную для государства, позицию накопителя денег, вместо того чтобы пустить их в прибыльное дело.
Так и не перешли к решительной и жесточайшей протекционистской политике.
Я продолжаю считать, что на переходных рубежах должно иметь место разумное сочетание государственной и частной собственности и что если этого не сделаем, – низкая культура и рваческий настрой собственника будут неизбежно вызывать сокращение производства наиболее жизненно необходимых предметов за счет повышения их цены?
Не отказались от практики крупного и мелкого надувательства людей, их обмана, не исполнения вчера обещанного. Раньше нас мало обманывали, нам лгали идейно на стратегическом уровне. Сейчас с нами жульничают по жизни в рамках тактических мероприятий.
Я ссылался тогда на резкое единовременное повышение платы за коммунальные услуги, введение новых за «найм жилья» и «капитальный ремонт», на трудовые вклады населения, которые компенсировались, и продолжают компенсироваться на уровне двадцатой части их фактического размера. Для доказательности упомянул даже о Гамильтоне, который в аналогичной ситуации строительства новой Америки, категорически отметал все возможные «легкие» варианты ликвидации или уменьшения государственного долга. Считал абсолютно неприемлемым для государства отступление от своих обязательств, дабы «не опрокинуть всю общественную мораль».
А вот свежий пример, связанный с принятием Закона о так называемой автостраховке. Я отправил по нему лично Вам три письма (от 07.06.03, 12.11.03 и 06.01.04 г.), может быть, несколько эмоциональных по форме, но с весомыми доводами, и пока еще не получил ни одного ответа, хотя бы сколько-то соответствующего существу моих вопросов. А ведь абсолютно очевидно, что этот грабительский закон, лоббистски продвинутый коммерческими страховыми организациями, направлен на создание дополнительной напряженности в нашем обществе и противоречит всем нормам Конституции Российской Федерации. Так он всеми автоводителями и воспринимается. Для того чтобы представить их меру возмущения, надо только поставить себя на их место. Представить себя человеком, которого в демократичном обществе заставляют заботиться о своем «благе» с помощью акций принуждения, наказания, штрафования, отказа в проведении техосмотра. Всего прочего, о чем я писал Вам в своих письмах.
Поэтому остается справедливым и злободневным вопрос о доверии между народом (его, безусловно, большинством) и государством или, другими словами, о максимально возможной адекватности в их подходах к жизненным проблемам и способам их разрешения. Остается в силе и пожелание о создании специальной комиссии, дабы поручить ей посмотреть, какими излишними процедурами, какими дополнительными бумажками и прочими неразумными требованиями, в сравнении с «бюрократическими» советскими временами, обросла ныне жизнь рядового Гражданина, и затем устранить все это дополнительно и неразумно появившееся. В противном случае заявления о создании атмосферы доверия к государству и правительству будут пустыми словами.
Наконец, из области критики. Это замечание в части «увлеченности» меньшинства помпезностью, роскошью и прочими излишествами на фоне разорения страны и нищеты большинства населения, того самого, уже наглядно воспринимаемого обществом, его расслоения на богатых и бедных. Сейчас это стало проявляться еще в определенном противопоставлении центра городов его окраинам. Во все ускоряющемся, буквально соревновательном, процессе придания центральной части городов подчеркнуто «благородного» вида за счет районов со старой, построенной при Советах, «социалки», разрушающейся, десятилетиями не ремонтируемой, грязной, замусоренной, с дворовыми автомобильными стоянками.
Что же сделано из того, о чем я тогда писал?
Смешно, но первой реакцией на обращение (может, в силу простого совпадения с таковой же утилитарно-очевидной устремленностью Правительства) стали снижаться банковские ставки по вкладам. Настолько быстро и значительно, что сегодня они выведены на уровень более низкий в сравнении с инфляцией, т. е. опять с вполне определенными потерями для населения, но без заметного роста инвестиций.
С большим удовлетворением я воспринял рассмотрение Вами проблем, связанных с культурой общества. Есть отрадные сдвиги в этой области. Отлично работает телевизионный канал «Культура», стали регулярными передачи на технические и научные темы, значительно увеличилось число серьезных передач. Но, одновременно, задавила реклама, навязчивая, нахальная, сексуально ориентированная, буквально съедающая весь позитив как раз у того слоя людей, кому, прежде всего, и надо было бы прививать эту самую культуру. То же можно сказать и о заполонении телевидения низкопробной детективщиной и разными играми, число которых за это время не сократилось, а раза в два, если не больше, увеличилось. Это подтверждает мой тезис о том, что культура общества (в полном интегральном значении) не может измениться ни в день, ни в год и ей нужно заниматься постоянно и настойчиво.
Не могу, с той же долей удовлетворенности, не отметить, что в Ваших выступлениях, средствах массовой информации, особенно, в ходе недавних думских выборов были затронуты чуть не все тут поднятые вопросы.
Однако поднять вопрос, не значит найти решение, а, тем более, решить его, а потому и остаются в силе предложения, приведенные в конце упомянутого письма, в части: роли государства и принципов его строительства, социальной справедливости и действенного соотношения в интересах, законности и культуры.
Был бы рад, если что-то из мною тут изложенного нашло отражение в Вашей предвыборной программе».
Как-то я отметил, что пришел к выводу о желательности естественного «занесения» в организм возможно большего по числу и разнообразию натуральных микроорганизмов и прочих «вредных» элементов, полагая при этом, что все нужное для защиты организма, исключая разве некие экстремальные обстоятельства, должно являться прямой функцией самого организма. Со школьных лет я осознал еще одно понятие, что моя голова, является главнейшим инструментом, программирующим оптимальную работу организма, включая эффективную защиту от многочисленных внешних возмущений. Давно установил, что «напряженная» работа по созданию людьми различных лекарственных и прочих средств на 90 % является бессмысленной борьбой с законами природы, а лучшим способом избавления, например, от тараканов является чистота и полное лишение их возможности добраться до еды.
Что разные микробы и насекомые приспосабливаются и «совершенствуются» много быстрее, чем создаются людьми новые медикаменты, от массового употребления которых появился СПИД, а от чрезмерно раздутой «пропаганды» резко возросли раковые заболевания. Имеет место недооценка и того, и другого. В плане избавления человечества от массовых болезней значимо больше медиков сделали ученые, техники и разные мастеровые, обеспечив его водой, теплом, светом, добротной пищей, удобным жильем и прочими бытовыми благостями.
И вот какую воду вылил на мельницу моих представлений о жизни специалист – биолог В. Бритов. В журнале «Химия и Жизнь» № 11 за 1990 год им написано.
«Ныне доказано, что каждый вид животных и растений обладает целым набором своих «родных», так называемых видоспецифичных паразитов, и чем выше их «хозяин» стоит на эволюционной лестнице, тем больше у него «нахлебников». К человеку приспособилось около тысячи видов паразитов. Всего в нашем теле 1014 микробных клеток, или на порядок больше числа всех клеток человеческого организма. Разумеется, такая уйма паразитов и мирных нахлебников у человека появилась не в XX веке. Они – продукт нормальной эволюции. Складывается впечатление, что без паразитов жизнь на земле осталась бы вообще на уровне прокариот (одноклеточных организмов).
О зловредности паразитов написаны тысячи книг… В духе непримиримой борьбы с «кровопийцами» воспитаны поколения специалистов. Пандемия чумы в Vl веке погубила 100 миллионов человек. А от бубонной чумы за пять лет, с 1346 по 1350 год, погибло около четверти населения земного шара. Страшная статистика! Но давайте оставим эмоции и взглянем на дело с профессиональных позиций. Вымирание одних видов растений и животных всегда шло параллельно с прогрессом и процветанием других. Природа и ныне создает великое разнообразие внутри каждого вида и множество выходов из трудного положения. Самый простой и распространенный из них – налаживание между паразитом и хозяином взаимотерпимости и симбиотических взаимоотношений. Природа обеспечивает каждое новое поколение животных наиболее важными симбионтами. Например, у беременных женщин кожная флора молочных желез изобилует бактериями и грибками, в основном стафилококками, микрококками и корнебактериями. С паразитами мы повязаны одной веревочкой. Иммунная система человека должна поддерживать форму, систематически тренироваться и быть в постоянной готовности. Только в единоборстве с паразитами организм хозяина приобретает систему иммунной защиты – другого пути в природе нет.
Паразитологи слишком увлеклись разработкой вредоносной стороны паразитизма и почти совсем забыли о противоположной, положительной. Современный человек должен преодолеть видовой снобизм и правильно осмыслить древнейшее явление паразитизма».
Комментарии не требуются, хотя и здесь, как у многих других пропагандистов чего-либо «нового», есть элементы определенной бескомпромиссной однобокости. По Бритову получается, что жизнь не только нормально функционирует, но и чуть ли не организовалась вообще благодаря наличию паразитов. Все значительно проще. Природа не любит пустоты пространства и заполняет ее всем, что только может существовать. Не потому ли бактерии, в рамках созидания своего собственного «иммунитета», покончили с кажущимся людям всемогуществом антибиотиков. Причем, как было установлено в дальнейшем, не под влиянием мутации и наследственного привыкания микробов к антибиотикам, а в результате обретения бактериями своеобразного биологического оружия названного американским генетиком Д. Ледербергом – «плазмидами». С помощью их микробы и стали фактически «отстаивать» свое существование. Человек, значит, им в зубы – антибиотик, а они против него чуть не мгновенно и с неменьшей «изобретательностью» – свои «плазмиды».
Паразиты и человек находятся в состоянии непримиримой борьбы, а отнюдь не благожелательной взаимотерпимости. Симбиотические отношения для человека «полезны» лишь косвенно в рамках поддержания им себя для, верно отмеченного Бритовым, обретения иммунной защиты. Добавлю от себя, – обретения ее наиболее естественным способом, чего не делается сегодня в борьбе против свалившейся на нас эпидемии.
Письмо Недорезову.
Дорогой Илья Валерьевич! С сожалением, даже с большим сожалением, и не меньшим удивлением прочитал твою реакцию на мою от великой любви к тебе написанную дневниковую, личного предназначения, невинную и с литературными вывертами, запись (не статью, не рецензию и не письмо, где подобное не допустимо или, по крайней мере, не желательно).
Почему? Да потому, что она, твоя реакция:
во-первых, совсем не корреспондируется с моим неизменным на протяжении всех лет нашей совместной работы высочайшем мнении о тебе как отличном специалисте, наделенном особо импонирующими мне способностью и умением доводить свой труд до полезного конечного результата;
во-вторых, сочинена, во многом против тех отработанных жизнью норм и правил, коими я руководствовался в работе, постоянно всем пропагандировал и, наконец, позволил себе отразить их в своих «Заметках конструктора» (прежде всего, в части, касающейся информации и технического спора, а впрочем, и многого другого);
в-третьих, не соответствует сути моих замечаний, чисто редакторского характера, не затрагивающих концептуальных положений твоей теории и ее математического аппарата, и касается, прежде всего, практической полезности труда и наличия в нем более или менее четких рекомендаций по оптимальному его применению потенциальным пользователем.
Именно поэтому я никак не мог воспринять абсолютно излишнее, не относящееся к делу, музыкальное сопровождение твоего послания с его:
не совсем корректным сравнением качества и полноты моих и других товарищей замечаний из-за отсутствия у меня последних и невозможности сделать по ним собственных выводов;
«сомнениями» в правильности просьбы «посмотреть мне твою рукопись» без указания, в чем эти сомнения заключались;
«неверностью большинства замечаний В. Быкова» и несколько диссонирующей с таким утверждением, «необходимостью кардинального изменения моего (твоего) подхода к изложению предмета и не только в разделе 1, частично со сжатыми сроками сдачи книги в печать»;
многочисленными личностными адресациями к моей мотивации по поводу тех или иных моих действий, естественно, не соответствующими действительности, вроде: он «почему-то надеялся», его «обиды и злость перенеслись в письмо», «не попытался разобраться», ему «это не понравилось…»);
достаточно сумбурными сентенциями на тему, что должно и не должно делать «ученику» и «Учителю», на чем он «не должен застывать», как следует читать книги и т. п.
Единственным у тебя, достойным делового обсуждения мог бы стать, похоже, только разбор моих «заблуждений» в части раздела 1.4 твоей книги, если бы я действительно думал так, как ты в своих размышлениях, исходя из предвзятой исходной недооценки знаний критикуемого, все представил. Хотя следовало бы знать, что в критике, дабы элементарно не попасть на «крючок» своего визави, желательно руководствоваться обратным: что тот, по крайней мере, не глупее нас, а, еще лучше, – умнее, хитрее, прагматичное и также «себе на уме». Кстати, если позволишь мне отвлечься, вспомнил сейчас, как вы с Орловым, по этой самой причине – недооценки, возможностей и эгоистических интересов противной стороны – написали в свое время настолько негодный проект контракта с немцами, что невозможно было править и мне пришлось его полностью переписать. Здесь полная аналогия.
Как ты мог, при многих годах совместной работы и доскональных с тобой обсуждений рассматриваемой проблемы, вообразить, что я спутал упругий с упруго-пластическим изгибом? Зная отлично мою хватку, житейскую мудрость и хитрость, допустить, что я при своих скромных, несравнимых с тобой, познаниях в «дифференциальной геометрии», брошусь критиковать твои концептуальные теоретические положения? Мои замечания в этой части, повторяюсь, касались только явных упущений чисто редакторского плана: что надо бы написать было этот раздел в части упруго-пластического изгиба проката так же красиво и корректно, как то сделали Ландау и Лившиц по упругому изгибу стержня. И, безусловно, оговорюсь, в меру твоих авторских возможностей и разных, всегда имеющих место, временных и прочих ограничений.
Мне трудно дать законченную редакцию данного раздела одному, поскольку у меня есть десятки всяких сомнений и уточняющих вопросов. А вот если бы мы с тобой собрались в неофициальной обстановке, гарантирую, что сочинили бы безупречную его редакцию. Во всяком случае, такую, которая вполне и к взаимному удовольствию устроила бы нас обоих.
Из всего тобою написанного в «Размышлениях» мне было приятно остановить свой взгляд, пожалуй, лишь на преамбуле, конкретно, на твоем упоминании о возможности «начать интересную переписку»… но только, упаси Бог, без всякого для того якобы моего намерения тебя «завести». Всякий завод делу не способствует, а часто выплескивается в то, о чем речь шла выше. С уважением. В. Быков.
Ответа на это письмо я от Недорезова так и не получил, несмотря на многие ему напоминания. Почему? Думаю от стыда, поскольку понял, что написал мне в состоянии некоего завода просто несусветную чушь. Не возвращались мы к ней и после нескольких затем с ним, по разным случаям, встреч.
Часть 2
Общественное сознание выражает интересы определенных групп и социальных слоев общества. Фактическая структура различных по классовому признаку систем ничем не отличается друг от друга. Везде от царя до палача – полный набор. В общем виде он сводится к четырем группам. Власти. Ее поддерживающих и ее использующих в своих интересах. Работающих, т. е. создающих духовные и материальные блага, с прослойкой недовольных борцов за свободу, справедливость и отстаивающих право на проявление своего Я, Бунтарей из числа одержимых жаждой власти, или просто аферистов и «гигантов» мысли, одухотворенных жаждой преобразования мира на основе какой-нибудь очередной еще одной теории социального совершенства. Есть еще группа – явные бандиты и воры, но здесь не о них речь, хотя и она сегодня обрела определенный вес.
Такое разделение имеет место не только в рамках государств, но и отдельных его институтов, предприятий, организаций и т. д.
Все названные выше группы имеют разные, можно сказать, даже во многом явно антагонистические интересы, а потому не способны к выработке единого мнения.
Это обстоятельство усугубляется сугубо частными личностными интересами людей в силу природных их качеств, разных способностей, желаний, увлечений.
Даже в физике, с ее неизмеримо более строгими законами бытия, невозможна постановка задачи вне определяющих ее решение граничных условий и определенных допущений. Тем более, вне указанного, вне человеческого фактора, групповых и личных интересов людей, времени и места действия, недопустимы рассмотрение и анализ каких-либо событий. Любое утверждение вне того, кем оно сделано, в каких условиях, по поводу каких событий, – ничего дать не может, и выводов из него никаких сделать нельзя. Оно будет полезным только тогда, когда нам известны обстоятельства внешнего порядка, сопутствующие данному утверждению. Полнота их и будет определять объективность рассматриваемого утверждения. Вот предельный пример абсурдности обратного. За то, чтобы строить, – 30% деловых людей, понимающих и способных строить, а против – 70% ничего не умеющих бездельников. Строить или не строить? Общепринятый подход к такому голосованию пригоден лишь для думских решений.
Жизнь во всем ее многообразии как-то запрограммирована. Поэтому все потуги человечества «сознательно» ее изменить есть продукт естественного природного, а отнюдь не сознательного совершенствования жизни. Нравоучительные сентенции изменяют общественные формации примерно так, как размножается и гибнет стая саранчи. Коэффициент полезного действия «активной» деятельности преобразователей мира в стратегическом плане действительного движения вперед исключительно мал и если бы ее можно было изъять из жизни, то она развивалась и совершенствовалась значительно быстрее.
И, тем не менее, ни один из будущих избранников народа не приходит к правлению, дабы чего-либо не обещать ему, хотя требуется может лишь одно: защищать его от преступников и насилия в рамках давно известных норм и правил. Представляя государство, власть никак не может понять, что его ценности должны быть максимально адекватны ценностям личности. Стремление к проявлению себя есть главный определяющий момент в действиях человека. Желание властвовать в самом широком смысле этого слова – основной стимулятор его движения по жизни. Быть первым, быть признанным в определенной области и в определенном кругу.. А поскольку устремления различны – от благородных до преступных, то только поэтому никто больше не придумал объяснять свои действия разного рода внешними обстоятельствами (историческими и другими), как политики, в наибольшей степени подверженные стремлению к власти уже в общепринятом значении этого слова. Судить о них по болтовне на данную тему – грубейшая ошибка. Их действия прямо направлены на подчинение себе, а отнюдь ни на какую заботу об обществе и истории вне себя в ней.
Они придумывают, или берут готовую, философию поведения в соответствии с поставленными перед собой целями, а не наоборот. Законы властвования и управления едва ли изменились за всю историю человечества, и общественное мнение власть тут всегда стремилась использовать в своих спекулятивных целях. Сутевая основа всего этого отработана человеком, когда он таскал с собой головешку для разжигания очага.
Остальная же масса верит политическим вывертам и живет, как сказал Пришвин, «в известной атмосфере обмана и легенды». Ее нужно учить действительным законам жизни, а не разного рода церковным призывам к добру и справедливости – основным атрибутам подчинения и эксплуатации малой кучкой одержимых в определяющей жизнь борьбе за место под солнцем.
Любая религия есть философский идеализм, настоенный на свойственной человеку мечте о прекрасном будущем и используемый дельцами в чисто эгоистических целях. Направленность христианского учения понятна любому критически мыслящему человеку. Интересует нас в нем, естественно, не та бутафория, как был создан человек и звери и кто из них вперед, а те идеи, что позволяли тысячелетия наркотически отуплять народ и одним использовать их, а другим поддерживать первых активным участием в ритуально-культовых сборищах. Особенно тогда, когда человек устремлен, когда его эгоистические импульсы, по Кестлеру, обращаются в «интегральные тенденции» и «кровопролитие совершается во имя Бога, короля или счастливого будущего».