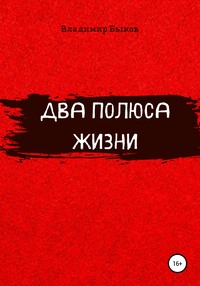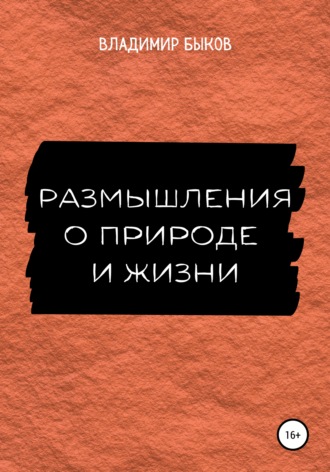 полная версия
полная версияРазмышления о природе и жизни
Заметьте: не я прикажу, не я помогу, и не просто совместными усилиями, а «Вашими и моими». Это как раз из того, что подчеркивалось многими: умение Сталина уговорить, упросить и почти всегда облечь желаемое в оригинальную форму, иногда грубую, жесткую, порой угрожающую, но всегда почти эффектную для надлежащего воздействия на человека.
По словам Молотова умный Черчилль предложил однажды установить авиабазу для охраны Мурманска, мотивируя тем, что нам трудно. Сталин ему в ответ: «Да, нам трудно, так давайте вы эти свои войска отправьте на фронт, а мы уж сами будем охранять нашу базу».
Главный маршал авиации А. Голованов рассказывал, как на обеде Сталина с Черчиллем он переживал, как бы этот известный выпивоха не споил Сталина. Когда Черчилля на руках вынесли из-за стола, Сталин подошел к Голованову и спросил: «Что ты на меня так смотрел? Не бойся, России я не пропью, а он у меня завтра будет вертеться, как карась на сковородке!».
Из речи английского премьера Черчилля в палате общин по случаю 80-летия со дня рождения Сталина, приведенной в Британской энциклопедии.
«Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавлял гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь.
Сталин производил на нас сильнейшее впечатление. Он был необычайно сложной личностью. Человеком исключительной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный в Британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Обладал большим чувством юмора и сарказма, глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью, способностью точно воспринимать мысли, находить в трудные моменты пути выхода из безвыходного положения, быть одинаково сдержанным и не поддающимся никаким иллюзиям, как в критические моменты, так и в моменты торжества.
Все это было настолько велико в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времен и народов, не имевшим равных в мире диктатором. Он принял Россию с сохой и оставил ее с атомным вооружением, создал и подчинил себе огромную империю. История, народ таких людей не забывают».
Может это чисто черчиллевская, ради косвенного возвышения своей собственной личности, – сверхпревосходная степень данного повествования. Но все равно, – впечатляющая в устах бывшего главного врага, да к тому же спустя много лет, в обстановке, когда не было уже никаких на то побудительных причин.
«Сталин к изумлению тех, кто знал его безапелляционную манеру вести Политбюро или заседания военной ставки, – очень естественно адаптировался к обстановке острой полемики на международной конференции. В компании двух таких прожженных политиков, как Черчилль и Рузвельт, Сталин произвел впечатление своим знанием дела, восхитительной памятью, полемическим искусством и быстротой переключения с «грубости» на обаяние. Ялта для Сталина была апогеем личной карьеры, но эмоции исторического момента и будущая политика существовали в его мозгу отдельно».
Данные характеристики подтверждаются сборником документов по тегеранской, ялтинской и потсдамской конференциям, в котором приведены подробные записи выступлений глав делегаций. Сталин в полемическом соревновании действительно выглядел выше своих оппонентов Рузвельта и Черчилля, а затем Трумэна и Эттли. Естественно, они не могли не отдать должное уму, изобретательности, хватке и настойчивости своего соперника.
В. Прибытков, будучи помощником Черненко, был привлечен к работе по разбору архива Микояна, и написал о том в книге «Аппарат». Книге пустой, с неверно расставленными акцентами, но с многими фактами из жизни двора.
«О гениальности Бухарина слышать приходилось не раз, а вот читать что-нибудь из его работ не довелось по причине их тогдашней запрещенности. А тут уткнулся в ворох пожелтевших от времени газет. Беру одну со статьей Бухарина, читаю – чувствую разочарование… Поверхностные суждения, не слишком глубокий анализ, скоропалительные выводы. Беру следующую – что-то об антирелигиозной пропаганде… Сплошная литературщина! Больше читать Бухарина не стал. Журналист он, видимо, был не плохой, а политик аховый. В общем, я разочаровался.
Но появились другие находки – куда интереснее!.. Никому не известные письма Сталина Микояну… Приведу одно из них. Оно того стоит не только из-за уникального содержания, но и по другой причине…– абсолютной грамотности письма, где уж точно не было никакой редакторской правки, а запятые стояли на своих местах!».
Оставим «уникальность» письма и наличие в нем всех запятых Прибыткову, а вот содержание, как этого, так и других помещенных им фотокопий писем Сталина, действительно говорит о неординарности автора, его прагматичности и хозяйственной хватке. Особо в сравнении с пустыми писаниями Бухарина.
Соломон (Исецкий). «Известно, что Сталин лично в денежном отношении честный человек. Сталин, мало интересовавшийся этим делом (работой Рабоче-крестьянской инспекции) всецело ушел в военное дело. Он все время находился при Троцком, не бог весть каком храбром «фельдмаршале», которого он, человек храбрый и мужественный заменял и толкал, предоставляя ему все лавры главнокомандующего. Не зная лично Сталина и имея о нем представление лишь по отзывам людей, заслуживающих доверия, как о человеке честном и не корыстолюбивым, я не имел основания бояться, что он способен будет покрывать Гуковского, что он и доказал.
Михалков. «Когда меня спрашивают: с кем из великих людей вам было интереснее всего? Я говорю – со Сталиным. Он был во всём мощный человек. У него мощный ум. Пусть жестокий человек, но не избирательно. Он был жестоким к самому себе, к детям своим, к своим друзьям. Время было такое. Сила Сталина была как бы внутренняя сила. Великая всё же личность – Сталин. Так думали и многие великие конструкторы, полководцы, ученые. Конечно, злой гений. Еще из великих политиков ХХ века я бы назвал Де Голля и Черчилля. Хотя Черчилль нас не любил, но он уважал нас. Уважал Сталина. Черчилль великий человек».
Академик Литвинов. «Сталин знал всех конструкторов и считал это своей прямой обязанностью».
Делягин. «По поводу фразы Вольтера «все идет к лучшему в этом лучшем из миров» отвечу известной шуткой: «Оптимист полагает, что мы живем в лучшем из возможных миров, а пессимист опасается, что так оно и есть». Никто не даст нам гарантий, что все, в конце концов, будет хорошо. Но и делать из происходящего непрерывную трагедию тоже не стоит. Любой шаг открывает новые возможности и создает новые проблемы – даже если это безусловный шаг назад, как совершаемый нами сегодня шаг к заведомо и неэффективной, и несправедливой однопартийной политической системе, гармонично объединяющей пороки СССР и «коррупционной демократии».
Закрывать на это глаза – значит сознательно делать себя слепым, что недостойно ни отдельного человека, ни, тем более, общества в целом. Особенно опасно такое поведение в моменты выбора, на исторической развилке. У нас сейчас именно такой момент. Он продлится недолго: может быть, даже меньше года, максимум – до новых президентских выборов. Если всеобщее требование социальной справедливости не будет удовлетворено действующей политической структурой – а в нее входят не только Президент, Правительство и Дума, если при этом не будет обеспечен необходимый уровень социальной эффективности, Россия может очень быстро утратить всякое актуальное значение, как его в 1991 году утратил Советский Союз под руководством Горбачева. Это не алармизм, а вполне реальная перспектива. Лично для меня она неприемлема, и я всеми доступными мне средствами буду ей противостоять. Хотя по этому поводу у каких-нибудь чеченских сепаратистов, кремлевских политтехнологов или либеральных фундаменталистов может быть прямо противоположное – и, надо сказать, подтвержденное историей наших последних 15 лет – мнение.
Я связываю будущее России с восстановлением баланса идей социальной справедливости и эффективности, реализуемые в отрыве друг от друга, они разрушают государство и общество, уничтожают перспективы их развития и развития каждого человека в отдельности. Реализуемые же в комплексе, они обеспечивают возрождение и модернизацию даже обществ, размолотых в историческую пыль.
Если говорить серьезно, то надо признать, что эксперимент 90-х годов окончен, рыночное чудо у нас произошло несколько иное, чем было обещано, и вопрос: – «За что боролись?» – стоит, что называется, в полный рост. Ведь не за то, чтобы Роман Абрамович продал «Сибнефть» Михаилу Ходорковскому и купил себе «Челси», правда? И не за то, чтобы у студентки МГИМО Ксюши Собчак крали из ее девичьей квартирки драгоценностей на 300 тысяч долларов…
Сталин, создавая общество социальной справедливости, добился высокой эффективности советской экономической модели. Я его не восхваляю и не оправдываю его методы, хотя по контрасту с нынешними руководителями, – это становится все более модным. То, что именно созданная Сталиным система породила Горбачева и более поздних правителей, является подлинным приговором истории, как Сталину, так и его методам. Однако в среднесрочном плане результат был нагляден».
Исключительно верная, на сей раз, оценка Сталина. Не заимствовал ли Дягилев ее у меня из какого-либо интернетовского сайта? Но, если заимствовал, то все же не совсем. Ибо его заявление о наступившим якобы «моменте выбора, на исторической развилке» – явно преждевременно. И соотношение между противоборствующими силами пока не в пользу ратующих за социальную справедливость, и мера их возмущенности еще относительно мала, нет и должного понимания большинством действительных причин с нами происшедшего. Такой «момент» наступит тогда, когда общество на спирали российской истории сделает, как и положено, свой полный, или близкий к нему, оборот.
Громыко. «Где бы не доводилось Сталина видеть, прежде всего, обращало на себя внимание, что он человек мысли. Никогда не замечал, чтобы сказанное им не выражало определенного отношения к обсуждаемому вопросу. Ничего не выражающих заявлений он не любил. Тяготился многословием. В то же время мог терпимо относиться к людям, испытывавшим трудности в четком формулировании своей мысли.
Имел обыкновение в полемике смотреть на своего собеседника пристально, не отводя глаз, и надо сказать, шипы этого взгляда пронизывали.
Речам Сталина была присуща своеобразная манера. Он брал точностью в формулировании мыслей и, главное, нестандартностью.
В движениях всегда проявлял неторопливость, никогда не спешил, не прибавлял шаг. На совещаниях быстро не говорил и никого не торопил. Казалось, само время прекращает бег, пока этот человек занят делом.
Никогда не носил с собой никаких папок и бумаг. Так появлялся на любых совещаниях, так приходил и на международные встречи. Если было нужно, советовался и потом высказывал свое мнение.
Сталин вызывает и будет вызывать разные суждения, в том числе противоречивые. Человек большого масштаба, он, несомненно, явление в истории. С одной стороны, человек сильного интеллекта, железной воли и непреклонной решимости. С другой, человек жестокий, не считающий количества жертв, творивший чудовищный произвол».
Симонов. «Сталин мало говорил, много делал, много встречался с людьми по делам, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил ясно, просто: мысли в головы вдалбливал прочно, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал. (Сравните с Лениным, или с более поздними, Хрущевым, Горбачевым, Ельциным, Путиным).
Наивно пробовать думать за такого человека, как Сталин, представлять ход его мыслей – это домыслы, ни на чем ином, кроме интуитивной уверенности не основаны.
Сталин играл (часто мерзостную, причем заранее подготовленную и прорепетированную) роль верховного судьи, обладающего безапелляционным правом наказать и простить, казнить и миловать».
Адмирал флота Исаков о Сталине (по воспоминаниям Симонова с отдельными моими сокращениями). «Идем со Сталиным по довольно длинным переходам. На каждом повороте стоят часовые. Пришли в зал, и Сталин вдруг: «Заметили, сколько их там стоит? Идешь каждый раз по коридору, и думаешь: кто из них? Если вот этот, то будет стрелять в спину, а если завернешь за угол, то следующий – в лицо. Вот так идешь и думаешь…». Меня этот случай потряс.
Однажды я был в составе комиссии, и, будучи не согласным с ее руководителем при докладе Сталину, попросил слова и, горячась, стал говорить о ведущей к объекту железнодорожной ветке…, что она не лезет ни в какие ворота и есть не что иное, как вредительство.
Сталин дослушал и сказал спокойно: «Вы довольно убедительно проанализировали состояние дела. Действительно, эта дорога в таком виде, в каком она сейчас находится, есть не что иное, как вредительство. Но кто вредитель? Я вредитель. Я дал указание ее построить. Доложили мне, что другого выхода нет, что это ускорит темпы, подробностей не сказали, доложили в общих чертах. Я согласился, так что я вредитель. А теперь давайте принимать решение, как быть в дальнейшем». Это один из многих случаев, когда он демонстрировал и чувство юмора, в высшей степени ему свойственное, и, в общем-то, способность признать свою ошибку.
Сталин вел заседания по принципу классических военных советов. Очень внимательно, неторопливо, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. Причем старался дать слово в порядке старшинства, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало следующего. И только в конце, выловив все существенное, отметя крайности, взяв полезное из разных позиций, делал резюме, подводил итоги. Так было в тех случаях, когда он не имел определенной точки зрения с самого начала. Когда же он заранее знал, представлял, как нужно решить тот или иной вопрос, то готовил его, вызывал двух – трех человек и рекомендовал им выступить в определенном направлении. И людям, не раз присутствовавшим на таких обсуждениях, было ясно, куда клонится дело. Но и тут он не торопился, не обрывал и не мешал высказываться с иными точками зрения, что иногда своими частностями попадало в орбиту его внимания и учитывались, несмотря на предрешенность.
Еще одно воспоминание. Сталин в гневе был страшен, вернее опасен. Я был свидетелем нескольких таких вспышек его гнева.
На одном из Военных советов, незадолго до войны, речь шла об аварийности в авиации. Сталин по своей привычке ходил с трубкой в руках вдоль стола, приглядываясь к присутствующим, иногда глядя в глаза, иногда в спины. Дошла очередь до командующего тогда военно-воздушными силами Рычагова, который был молод, а уж выглядел совсем мальчишкой. Он поднялся, и неожиданно, без какого-либо вступления, буквально выкрикнул:
– Аварийность и будет большая, потому, что вы заставляете нас летать на гробах!
И сразу покраснел, увидев возле себя Сталина,. и почувствовал, что сорвался. Наступила гробовая тишина. Сталин молчал. Все ждали, что будет. Он постоял, потом пошел в том же направлении, в каком и шел. Дошел до конца, повернулся, прошел всю комнату назад, опять повернулся и, вынув трубку изо рта, сказал медленно и тихо:
– Вы не должны были так сказать.
И пошел опять, снова дошел до конца, повернулся, прошел всю комнату, опять повернулся, остановился почти на том же месте и снова сказал тем же спокойным голосом:
– Вы не должны были так сказать. – Сделал паузу, и добавил – Заседание закрывается.
Через неделю Рычагов был арестован.
Поликарпов. «От его, Сталина, решений, внешне чисто незначительных и неприметных порой ходуном ходил весь мир, а события вдруг принимали обостренно мировой смысл.
Сталин обладал незаурядным талантом руководителя. За тридцать лет на посту главы государства через его руки прошли тысячи людей и дел, в которые он должен был быстро вникнуть, понять и оценить. И эта необходимость выработала в нем умение давать оценки и мнения, замечательные своей меткостью и сжатостью.
Всю жизнь Сталин не чурался черновой и подготовительной работы, необходимой для информационного обеспечения власти. При этом предоставляемый ему аналитический материал прорабатывал сам. К моменту, когда Сталин стал главой государства, он превратился в одного из образованнейших людей своего времени.
Происходящие под руководством Сталина совещания были подобны оркестру… В этом оркестре Сталину принадлежала роль дирижера…
Яковлев. «На протяжении многих лет мне приходилось неоднократно встречаться со Сталиным. Как правило, обсуждение важнейших дел велось у Сталина в узком кругу лиц без каких-либо записей и стенограмм, сопровождалось свободным обменом мнений, и окончательное решение принималось при подведении им «черты». Его мнение при этом было всегда решающим.
Сталин немного ниже среднего роста, сложен пропорционально, держался прямо, не сутулился. Я никогда не видел у него румянца, цвет лица – серо-землистый. Лицо в мелких оспинах. Волосы гладко зачесаны назад, черные, с сильной сединой. Глаза серо-коричневые. Когда хотел, – добрые, даже без улыбки, а с улыбкой – подкупающе ласковые. В гневе – пронзительные. Когда раздражался, на лице появлялись мелкие красные пятна.
Одет был обычно в серый полувоенный китель, брюки штатского образца, заправлены с напуском в очень мягкие шевровые сапоги с тонкой подошвой, почти без каблуков. Иногда такие брюки носил навыпуск. В годы войны часто бывал в маршальской форме. Говорил правильным русским языком, но с заметным кавказским акцентом. Голос глуховатый, горловой. Жестикуляция, а также движения и походка – умеренные, не порывистые, но выразительные.
Во время совещаний, бесед мягко прохаживался вдоль кабинета, слушая, что говорят, а потом присаживался. Посидит, покурит и опять принимается ходить. Слушая, редко перебивал, давал возможность высказаться. При обсуждении водил толстым синим или красным карандашом по листу чистой бумаги, пачка которой всегда лежала перед ним. Уходя домой, листочки с записями складывал и уносил с собой. Записки, что ему передавали на больших совещаниях, он всегда прочитывал, аккуратно свертывал и прятал в карман.
Заметна была такая его особенность: если дела на фронте хороши – он сердит, требователен и суров; когда неприятности – наоборот, казалось, что настроение у него бодрое, отношение к людям терпимое. Никогда не показывал вида, что ему тяжело. Понимал, видимо, что когда тяжело, людей надо поддержать, подбодрить.
Никогда не торопился. Тем не менее решения принимал немедленно, как говорят, не сходя с места, однако при обязательном участии специалистов, мнение которых всегда выслушивалось, и часто было решающим, даже если расходилось с его собственным.
В его высказываниях о кадрах было много непонятного. Говорил, что люди, в общем, везде одинаковые. Конечно, хотелось бы иметь всем только хороших людей, но их мало, есть средние, есть плохие. Надо уметь работать с теми, кто есть. У каждого есть недостатки, святых нет. Надо мириться, важно, чтобы баланс был положительным. Однако сам проявлял иногда необычную резкость и отнюдь не считался с «положительным балансом». Одному раз сказал: «Я вижу, вы спокойную жизнь любите. Тогда вам надо на кладбище, там покойники не будут с вами ни о чем спорить и ничего не будут с вас требовать».
Любил, чтобы на его вопросы давали короткий, прямой и четкий ответ, без вихляний. Обычно тот, кто бывал у Сталина в первый раз, долго собирался с ответом на его вопрос, старался хорошенько подумать, чтобы не попасть впросак, смотрел в окно, на потолок. А он, посмеиваясь, говорил: «Вы на потолок зря смотрите, там ничего не написано. Вы уж лучше прямо смотрите и говорите, что думаете. Пожалуйста, отвечайте так, как сами думаете. Не угодничайте, со мной этого не нужно. Мало пользы получится, если будете угадывать мои желания. Мы с вами разговариваем, чтобы у вас кое-чему поучиться, а не только вас поучать. Если твердо убеждены, что правы и можете доказать свою правоту, не считайтесь с чьим-то мнением, а действуйте, как подсказывает разум и ваша совесть».
Не терпел безграмотности, возмущался при чтении плохо составленного документа, сам правил, проверял правильность записанного под его диктовку».
А вот мнение о той эпохе диссидента Зиновьева. «Понять историю такого масштаба, как сталинская, это значит понять сущность нового общественного организма, что созревал в ней. Для этого ее надо брать как нечто единое целое и рассматривать объективно. Сталинизм представляется как обман и насилие, тогда как в основе он был добровольным творчеством многомиллионной массы людей. Репрессии и другие негативные факторы в то время играли не такую огромную роль, какую им теперь приписывают разные «разоблачители». На ту эпоху надо смотреть не только глазами пострадавших, но и глазами преуспевших, а их было значимо больше. Процесс этот происходил в непрерывной борьбе многочисленных сил и тенденций.
Одной из величайших заслуг сталинской эпохи явилась культурная революция. Новое общество нуждалось в миллионах образованных людей. И оно получило возможность удовлетворить эту потребность. Поразительный феномен? Доступным оказалось то, что было самым трудным в прошлой истории, – образование и культура. Они стали мощной компенсацией за бытовое убожество. Казалось, что образование и культура автоматически принесут бытовые улучшения. Для многих это происходило на самом деле и создавало иллюзию возможности того же для всех.
Но самым важным результатом революции, привлекшим на сторону нового строя подавляющее большинство населения, было образование коллективов, благодаря которым люди приобщились к публичной социальной жизни и ощутили заботу о себе общества и власти. Коллективная жизнь – без хозяев, с активным участием всех была неслыханной ранее нигде и никогда».
И сколько бы не критиковали Советскую власть – продолжает Поликарпов – «нельзя не признать того факта, что после трехсот лет самодержавия она впервые стала отражать интересы не узкого, двухпрцентного слоя общества, а большей его части».
Наконец, в части «соломонова суда», пишет о Сталине в недавно вышедшей книге «Бич Божий: эпоха Сталина» Олег Платонов. Пишет, хотя и с несколько иудофобских позиций, но весьма верно в глобальной оценке собственно Сталина и того, что предшествовало его приходу к власти.
«Гений Сталина состоял в том, что он сумел коммунизм из орудия разрушения превратить в инструмент национальной политики, укрепления и развития русского государства. Уничтожая большевистскую гвардию, Сталин не только разделывался с соперниками, но в какой-то степени искупал свою вину перед Русским народом, для которого казнь революционных погромщиков была актом исторического возмездия… Бывшие организаторы зловещего механизма подавления и террора стали жертвой рожденного ими детища… Только неслыханная жестокость могла «убедить» морально глухих большевиков – интернационалистов с руками по локоть в крови. В общем, уничтожении ленинской гвардии было закономерно и неизбежно.
А вот нечто другое, из области сталинского «деспотизма». Он многими сегодня воспринимается и преподносится сверх личностно и негативно, но в недалеком будущем, как это всегда было и будет, станет достоянием обычной истории фактов и событий, да еще для образности, приукрасится разными на то авторскими байками, как это недавно, в порядке исключения, было преподнесено неким Филатовым.
По его версии Василий Блюхер строил планы отделения от России Дальневосточной республики, и о том, якобы, сговаривался с японцами.
«Я был знаком с вдовой Блюхера – Глафирой. Так вот, с Василием Константиновичем Блюхером, первым маршалом (награжденным в гражданскую войну орденом Красного Знамени №1, а их, таких орденов, у Блюхера было пять), военным министром, главкомом Народно-революционной армии Дальневосточной республики, командующим Особой Дальневосточной армией, Сталин поступил просто: пригласил Блюхера для очередного награждения в Москву, арестовал его и уничтожил где-то на Лубянке или в Лефортове. Глафира не стала первой леди Дальнего Востока, а попала в ГУЛАГ».
Не правда ли, сегодня звучит кощунственно. А ведь завтра будет читаться вполне естественно и даже с неким удовольствием от сталинской «деловитости».
Думаю, что любая проповедь абсолютной истины, любой религии (церковной, коммунистической, либеральной…), претендующей на статус правящего мировоззрения, требует наличия «специалистов» по его истолкованию и защите. А величайшая устремленность их к обоснованию «чего-либо», базируется на извечном принципе интеллектуальной прислуги: кто платит, тот и прав. В этом плане предвзятой тенденциозности сталинская тоталитарная система не отличалась от современного рыночного либерализма. Однако не гоже, когда похожей проповедью начинают заниматься ни какие-нибудь «специалисты», а вполне умные, но предвзято настроенные, люди. Не потому ли эта тенденциозная «защита» состоявшегося сегодня фактически блокируется огромной армией других, деловых, людей, когда они обращаются к фактам реальной жизни. Тут оказывается, что при Советах было много лучше чуть не в любой ее области: культуры, образования, науки, техники, искусства, законности. Причем настолько лучше, что революционный переворот в стране может, кажется, состоятся и до того, как завершится упомянутый выше очередной виток спирали российской истории,