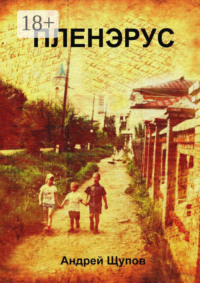Полная версия
У самого Черного моря
Знакомое воздушное движение, и она заиграла – неожиданно сильно и громко. Первые же аккорды сдавили меня, как слесарные тиски. Мелодия показалась знакомой, и все же я ее не знал. Разумеется, что-то из классики. По крайней мере повторить ее на гитарах пусть даже в самом упрощенном варианте мы бы не осмелились. Уверен, даже маэстро Зинчук в данном случае развел бы руками. Гримаска, мимолетно мелькнувшая на Алисином лице, тоже стало частью музыки. Маленькая пианистка воспринимала мелодию впрямую, понимая изнутри и глубже. Глядя на нее, что-то дополнительное открывал для себя и я. Последние молниеносные аккорды ужалили слух, мелодия оборвалась. Впрочем, пауза не затянулась. Порывисто вздохнув, Алиса вновь заиграла – на этот раз что-то легкое и шутливое.
– Это тоже Моцарт, – сообщила она. – Тебе нравится?
– Здорово! Особенно первое.
В ее глазах блеснули благодарные светлячки. Она продолжала музицировать, и щеки ее временами стремительно пунцевели. То ли ее захватывали те или иные мелодические пассажи, то ли она некстати вспоминала о моем присутствии и смущалась.
– Самое удивительное, что подобные вещи Моцарт называл пустяками, – сообщила она. – Но ведь это не пустяк, правда?
– Может, он просто рисовался?
– Не думаю. По его меркам и его масштабам так оно, вероятно, и представлялось. Хотя правильнее это было бы назвать вспышками. Блеснуло, вспыхнуло, – записал. Искорка, настроение, кусочек восторга.
– Наверное. Что-то вроде строчки в блокноте.
– Знаешь, мне иногда кажется, что в таких вот крохотных произведениях содержится даже больше ценного, чем в концертных объемах.
– Тебе не по душе «Реквием»?
– Конечно, «Реквием» – это здорово, но… Это конструкция, понимаешь? Огромная драматическая конструкция – из деталей, сочленений и схем… – она сбилась с такта, белесые бровки ее дрогнули, попытавшись сойтись на переносице, но молодая кожица не позволила. Морщинки являли нонсенс для ее лица. Оно могло менять цвет, розоветь и бледнеть, истекать слезами, но оно не умело еще мяться, как мнется бумага, не умело жухнуть и чернеть подобно весеннему снегу.
– «Реквием» – это собор, подобие храма, но он не похож на травинку, на простого кузнечика. А ведь они живые, хоть и маленькие. И эти его нечаянные вспышки – тоже живые. Когда я исполняю их, мне даже чудится, что я – это он, понимаешь? – Алиса развеселилась. – Я почти чувствую, что думал он в то или иное мгновение, что слышал и что видел. Это как перемещение во времени и пространстве. Раз! – и ты уже не здесь, а там – в иной эпохе, в иной стране.
– Забавно! И что же он видел, когда писал эту мелодию?
– Он? – дочь Петра Романовича снова покраснела. Мелодия прервалась.
– Ну? Что-то нехорошее?
– Нет, не совсем…
Неожиданно я догадался. То ли по ее лицу, то ли и впрямь по последним озорным тактам.
– Женщину! Он видел женщину, так?
– Констанцию, – Алиса Петровна потупила взор.
– Какую еще Констанцию? Бонасье, что ли?
– Супругу. Так звали его супругу.
– А-а… Ну, возможно, – я поднялся с табурета. – Кажется, начинаю прозревать. Амадей-то у нас был мужичком ветреным. Бахуса уважал, на девушек заглядывался. А тут вероятно, он проснулся, выпил чашечку кофе или что они там пили по утрам… Подсел к клавесину, обернулся, так? А она, его молодая женушка, лентяйка и соня, еще досматривала последние сны. – Я шагнул к Алисе. – Он встал, приблизился к ней, тихонечко стянул одеяло и, вернувшись за инструмент, стал быстро наигрывать.
– Но ведь она могла проснуться.
– Ты права! Зачем ему клавесин? Просто сел в кресло и, покусывая гусиное перо, беспрерывно хихикая, принялся сыпать нотными знаками на бумагу, так?
Мы посмотрели друг другу в глаза и враз рассмеялись. Смеяться ей шло, я шагнул еще ближе и не слишком ловко стиснул ее плечи.
– Что ты еще знаешь об этой Констанции?
– Знаю, что они любили друг друга. Он писал ей чудесные письма, она разучивала его произведения. Многие потом пытались ее ругать. Совсем как Наталью Гончарову. Будто бы и Пушкина, и Моцарта свели в могилу их жены. Только это неправда. Конечно, было разное – и размолвки, и безденежье, но…
– Что «но»? Продолжай! – ободрил я.
– Ты смеешься?
– Да нет же! Ей Богу интересно послушать адвоката чужих жен.
– Я думаю, – она чуть помешкала, – лучшими адвокатами были сами мужья. Иначе не было бы такого количества стихов и музыкальных произведений, посвященных Наталье и Констанции. Они были их музами, понимаешь?
– Понимаю.
– Ты опять улыбаешься?
– Я восхищаюсь. Одно дело, когда нас поучает Леха Вараксин, но когда я слышу умные вещи от красивой молодой барышни…
– Ты все-таки смеешься!
– Да нет же! Послушай…
Я стоял над ней и не знал, что говорить и надо ли вообще о чем-то сейчас говорить. И разумеется, в глаза ее тут же вернулось смятение. Бедная девочка абсолютно не умела ничего скрывать. Разумнее было бы притормозить, но я все же ляпнул. Совершенно не к месту и невпопад:
– Твой отец… Ты знаешь, каким образом он вернул нас сюда?
– Я… Нет, – она замотала головой. – Он разве… Я ведь просила его!..
Нет, она совсем не притворялась. Еще пара неосторожных фраз, и девочку запросто можно было бы заставить плакать. Это показалось мне просто феноменальным! По всему выходило, что Петр ибн Романович был великим психологом! Психологом с большой буквы, как и гадом подколодным с той же самой буквы. Фактически он выпускал меня против беззащитного создания и именно таким изощренным способом бил наповал. Этот монстр не сомневался в моей лояльности. Несмотря на выходку с Мариной, несмотря на то, что ему было известно про прежних наших подруг. В этом и таилась главная загвоздка. Он все прекрасно знал и тем не менее не убоялся свести нас. Слепой верой в собственные мускулы здесь и не пахло. Еще одна разновидность преступной психологии – шахматы, в которых помимо переменчивых пешек использовались вполне порядочные фигуры. Оно и понятно! Порядочная фигура не ударит королеву и тем паче не ударит принцессу. Кем бы ни оказался подобранный с улицы музыкант, он был загарпунен надежнейшей вилкой, один зубец которой предназначался для трусоватого плебса, второй – для совестливого романтика.
Чтобы унять волнение, я отступил от Алисы, втиснул ладони в карманы, порывисто прошелся по комнате.
– Кирилл! Что-то случилось? – она поднялась со стула. Даже руки прижала к груди. В самом деле – барышня. И одновременно – дочь эцелопа.
– Порядок на корабле! – я через силу улыбнулся. – Знаешь такую песню? В натуре я погиб, глаза закрою, вижу…
Она замотала головой.
– Чудачка! Это ж Высоцкий! Классик, как и твой Амадей, – я снова приблизился к девушке. – А знаешь что, Алиса Петровна, давай-ка мы с тобой потанцуем.
– Без музыки?
– Почему? Я напою… – Я подступил к пианино. Пальцы мои вполне самостоятельно заиграли что-то, и я с запозданием сообразил, что наигрываю музыку из французской лирической киноленты. Это была одна из тайных наших заготовок с текстом банальным, как банально лицо жениха на свадьбе. Однако перевод с русского (его сделала знакомая Джону учительница) полностью преобразил незамысловатый стих, превратив в нечто такое, что не понравиться просто не могло. В этом смысле французский и итальянский языки – уникальны. В том, собственно, и причина их не слишком широкой распространенности на мировой эстраде. Душа тянется к прекрасному, а пальцы хавают простое. Английский – проще, английский – доступнее. И уж куда нам до восточных перепевов каких-нибудь вьетнамцев или японцев.
– Что это? – глаза Алисы расширились. – Такое знакомое!
Я запел. На этот раз первым голосом, хотя в этой песне основную скрипку играл Леший. Ему лучше всех давалась очаровательная французская картавость. Мы с Джоном то и дело срывались на славянское карканье.
– Ну? – я оторвался от инструмента и обнял мою ученицу за талию. Смешной это получился момент. Сначала она шарахнулась от меня, словно угодивший в капкан зверек, а после неумело положила мне руки на плечи. Я мог бы поклясться, что эта девочка танцевала впервые в жизни. То есть, возможно, всяких там ритмических и танцевальных классов у нее хватало с избытком, но чтобы вот так с живым кавалером и не в учебном классе!.. Я закружил ее, продолжая хрипло распевать французскую самоделку. Мне вдруг стало страшно интересно расшевелить Алису, расплавить эту чертову пружину в ее спине, заставить вновь смеяться, как смеялась она совсем недавно, сидя за пианино. Девушка пунцевела, и мне это нравилось, но то ли было еще впереди! Алисе Петровне предстояло испытание более серьезное. Едва почувствовав, что напряжение ее спадает, я быстро наклонился и чмокнул ее в губы. Даже не поцелуй, а так – легкое прикосновение, но оно тут же оборвало наше кружение. Алиса остановилась, как вкопанная. Глаза ее впились в меня с таким испытующим выражением, что пришел черед смутиться и мне.
– И ничего такого… Легкий невинный поцелуй.
Легкий, невинный, но он подрубил ее, как крепкий удар топора подрубает тоненькую березку. Она упала мне на грудь и, ткнувшись своим аристократическим носом куда-то под мышку, беззвучно разрыдалась.
– Ну чего-ты, дурочка, – растерявшись, я погладил ее по мягкому кружеву волос.
Она что-то шепнула. Кажется, не по-русски.
– Что, что?
– Ихь бин ганс аляйн, – повторила она.
Я нахмурился. Пара десятков слов на французском, примерно столько же на английском являли все мои многотрудные достижения в языках. Немецкого я, увы, не знал. Но я мог запомнить, а после спросить у Вараксина.
– Значит, ты шпионка? – я стиснул ее крепче и поднял перед собой, словно ребенка. Она оказалась совсем легкой. Теперь лицо Алисы очутилось на одном уровне с моим.
– Я давно догадался про твое шпионство. То ты черненькая, то рыжая…
– Это парики, – хлюпнула она носом. – Я маскировалась.
– Вот видишь, я прав. Признайся, на той сказочной ладье – тоже была ты?
Она кивнула.
– Это дядина ладья. Иногда он сдает ее в аренду киностудиям. А я была в таком жутком настроении. С папой поссорилась. Он решил меня развеселить.
– Шпионов не следует веселить. Их нужно сдавать в КГБ! – шепнул я. – Пожалуй, именно это я и сделаю. Уверен, за такую добычу мне отвалят груду рублей.
– Не надо! – она порывисто обхватила мою шею. – Не надо меня никуда сдавать.
– Тогда ты должна… Ты должна будешь… – я так и не сумел закончить фразу. Робкие губы Алисы неумело прижались к моим, и тут же гулко забилось под темечком. Мне показалось, что я оглох. Это принявшее лишку сердечко пустилось вскачь под ребрами, опрокидывая мебель, обрывая паутину сосудов, ногами намолачивая резвую российскую чечетку. Кто скажет, что у сердца нет ног, будет неправ. Должны быть, по здравому размышлению. Иначе как бы и на чем оно убегало временами в пятки? Резонно? То-то и оно!..
***
Хотите – верьте, хотите – нет, но я ее не тронул. Мы пролежали в обнимку добрых несколько часов, как брат с сестрой, как пожилые супруги. Она рассказала мне, какой у нее замечательный папа, как он отстаивал в свое время песчаные пляжи в Бусуманске, не давал их засыпать щебнем, как помогал каким-то беженцам с юга и сколько всего сделал для нее. Бедную девочку не только лечили, ее активнейшим образом обучали. В самых престижных заведениях, у самых именитых педагогов. Алиса утверждала, что помимо всего прочего научилась у какого-то дюже умного профессора-психолога из Кёльна мыслить образами и цветовыми оттенками. Далось ей это не сразу, однако определенных успехов она в конце концов достигла. Я попросил что-нибудь продемонстрировать, и, послушно зажмурившись, Алиса увидела меня розово-желтым квадратом, о чем, несколько смущаясь, и сообщила со всем чистосердечием. Честное пионерское! Я даже рассмеялся. Хорошо, хоть не привиделся голубой миской. Вот было бы обидно! Миска – да еще голубая! А вообще, как выяснилось, женщины ей чаще всего представлялись неровными овалами, мужчины были угловатыми, дети же – золотистыми и круглыми. Она бормотала это, положив голову мне на грудь, не открывая глаз. Лепет засыпающего ребенка. Я гладил ее по волосам, и вскоре она действительно заснула. И это тоже показалось мне удивительным – почти волшебным. Привыкший молоть языком в присутствии женщин, я просто лежал рядом и прислушивался к своему новому состоянию. По всему выходило, что в постели с дамами тоже можно молчать и бездействовать, получая от этого величайшее удовольствие. И когда в дверь нашу постучали, это было хуже всякого будильника.
– Алиса, с тобой все в порядке?
Голос принадлежал Петру Романовичу, и, спустя мгновение, я стоял уже на ногах. Папенька отгулял свое в ресторации и вот решил навестить любимую доченьку. Или кто-нибудь из них уже обнаружил мое отсутствие? Скверно, если так!..
– Алиса, почему ты молчишь?
– Ответь ему, – шепнул я.
Испуганно моргая, она открыла было рот, но так и не проронила ни звука. Все было яснее ясного. В подобные игры девочка играть не умела. Проще промолчать, чем сказать неправду. В пару прыжков я очутился возле окна.
– Алиса! Он что, рядом? Он угрожает тебе?
Дело пахло керосином, – линять приходилось в самом экстренном порядке. Я не сомневался, что дверь в ближайшие минуты брызнет щепой и с треском вылетит.
Жестом показав, чтобы она затворила за мной окно, я подхватил обувку с канатом и выбрался на знакомый карниз. Помахав Алисе кроссовкой, торопливым шагом добрался до угла здания. Обернувшись, конечно, обнаружил, что эта глупышка продолжает смотреть мне вслед. Пришлось послать ей воздушный поцелуй. Очень уж круглые у нее были глаза. Впрочем, основания для опасений действительно имелись. По счастью, они еще не догадывались выбежать на улицу, но ведь догадаются! Очень и очень скоро. Ясно было, что и в собственную комнату возвращаться нельзя. С чего бы Петр Романович так переполошился? Конечно, успел обнаружить, что я пропал, и ударился в панику. Весело! Что называется, положение хуже губернаторского. Тоже, кстати, Вараксин когда-то рассказывал. Проезжал, дескать, губернатор через какое-то село, заночевал в крестьянской избушке. Ночью ему приспичило, но не на мороз же идти! Втихаря вынул из люльки младенца, положил в собственную кровать, а сам, хитроман такой, взял и напрудил малышу полную люльку. Но и младенец простаком не был. Пока губернатор справлял нужду, в свою очередь навалил ему в кровать, а, наваливши, почуял дискомфорт и, разумеется, разорался. Все повскакивали, с зажженными свечами ворвались к губернатору – ну, и… То самое, что именуют немой сценой… Положеньице!..
Жестяной карниз чуть поскрипывал под ногами, я напрягал слух, но особых надежд на то, что Джон будет гоготать на протяжении всей ночи, не питал. Даже такие, как Джон, любят порой поспать. А определить точно нужное окно представлялось не таким уж простым делом. Знать бы наперед, – обязательно оставил на стене метку. Гвоздем бы нацарапал что-то вроде «Киса и Ося были тут», а так… Одинаковые пальмы, одинаковые светильники, – взгляду было абсолютно не за что уцепиться.
Тем не менее примерное место я вычислил. Мешкать долее становилось опасно. В любую минуту внизу могли объявиться любопытствующие. И потому, скоренько обувшись, я свесил ноги и, держась руками за карниз, осторожно сполз вниз, зависнув в аккурат над одним из светильников. В случае чего – не хлопнусь сразу об асфальт, сначала приложусь к этому фонарику. Носком кроссовки я постучал по стеклу. Если ребятки проснутся – помогут перебраться к ним. Я повторил стук – на этот раз более нетерпеливо. Руки начинали затекать, висеть бесконечно на согнутых локтях я не мог. Ребятки однако не просыпались. Ждать становилось невмоготу, и, пошарив наугад по невидимому из моего положения окну, я стукнул чуть сильнее, разбив стекло и ступней очутившись на рамной перекладине. Сигнализация не взвыла, псы не залаяли – и то хорошо! Теперь я по крайней мере стоял на одной ноге, а это вам не висеть на руках! Перехватившись за нижний загнутый край карниза, я изогнулся телом и глянул вниз. Окно, как окно, ничего особенного, в комнате темень, и скорее всего никаких ребят нетути. Вараксин – тот наверняка бы проснулся от звона стекла. Но выбирать не приходилось. Счет шел на секунды. В несколько движений я выкрошил оставшееся стекло из рамного пространства и, распрямившись на руках, просунул в комнату ноги. Всего-то и хватило, что по колено. Значит, каскадерского трюка не избежать, как и определенного риска. Но что нам, инфарктникам, терять?
Я проиграл в уме возможные варианты и, судорожно вздохнув, разжал пальцы. Возможно, Джеки Чан посмеялся бы над моей неуклюжестью, но мне было не до смеха. Я едва не сорвался, и лишь близкая притолка спасла меня от верного падения. Затылком я все же приложился к створкам. Из глаз посыпали искры, руки в панике зашарили по сторонам, отыскивая опору. В самом несуразном положении – ногами на раме и упираясь носками кроссовок в верхний край оконной впадины, я завис на несколько секунд, осмысливая происшедшее. Уже более спокойно дотянулся пальцами до рамы, в несколько неловких присестов втиснул тело в узкое пространство. Дальше пошло легче. Ступив ногами на подоконник, я тяжело спрыгнул на ковер. Массивный стол, представительные шкафы, обилие латунных ручек и шпингалетов. Комната на поверку оказалась кабинетом и была девственно пуста, но самое главное, что дошло до меня с некоторым запозданием, это то, что в замке энергично проворачивается чей-то ключ. Ринувшись к двери, я замер, прижавшись к стене, – занятие, ставшее уже привычным. И почти тотчас в кабинет шагнул широкоплечий тип. Конечно же, из местных – из чатлан. Дубинка возле пояса, короткая стрижка, в правой руке – массивный фонарь.
Мое шевеление этот стервец уловил с завидной чуткостью. Позиция была не самая выгодная. В голову я его просто не сумел бы достать, а потому пришлось ударить не самым джентльменским образом – подъемом ноги в живот, переломив пополам.
– Извини, браток, рефлексы… – простынка и здесь оказала услугу. Петлей накинув ее на шею охраннику я с силой развел руки. Он трепыхался недолго. Сонная артерия – штучка уязвимая. Здесь бы и сам Поддубный не устоял. Главное – было не задушить чатланина всерьез, и, стоило ему обмякнуть, я тут же ослабил хватку. Уже у лежащего на ковре пощупал пульс, не поленился проверить дыхание. Все было в порядке. Подхватив из лапищи охранника связку ключей, я выскользнул в коридор. Удача наконец-то мне улыбнулась. Открывать все подряд не понадобилось. С первой попытки я угадал в нужное узилище. Пара всклокоченных со сна голов таращилась на меня. Заперев за собой дверь, я сделал друзьям знак, чтобы они помалкивали. И все же Джон недовольно молотнул подушку кулаком.
– Что за жизнь пошла. Ни днем, ни ночью покоя нет!
– То ли еще будет! – пророчески шепнул я и, конечно же, сглазил. Домина содрогнулся от грохота, заоконное пространство озарила яркая вспышка. Друзья мои повскакивали с постелей, сам я на мгновение зажмурился.
– Что ты там еще учудил? – прошипел Леший.
– Это не я, честное слово! – очумело глядя, как оседает с потолка пыль, я ущипнул себя за руку. Совершенно напрасно, так как никакими сновидениями тут не пахло. С хмурыми лицами мы вслушивались в разгорающуюся перестрелку и ничего решительно не понимали. Били не только из помповушек, зло и гулко на одиночные выстрелы откликались автоматные очереди…
Глава 4 УРА! В НАС МАЖУТ!
– Однако!.. – первым опомнился Вараксин. – Что это за хрень творится?
Джон кинулся было к окну, но я успел сцапать его за рукав.
– Куда, дурила? Пулю словить хочешь? – и вопреки сказанному сам метнулся вперед. Предусмотрительно встал чуть сбоку, но толку от этого было чуть. Судя по чудовищному рикошету, по зданию лупили из акаэсов, а АКС – это вам не родной и честный АКМ. Пуля тонкая, длинная – так и норовит свернуть на сторону. Нарисовать мертвую петлю такой пульке – пара пустяков. Потому и хотели их в свое время запретить, записали в оружие варваров и садюг. Калибр 7,62, типа, гуманный, а 5,45 – вовсе аже наоборот. Как и авиабомбы – вещь могутная и благородная в пику подленьким и лицедейским минам. Причуды милитарной логики! Убивать можно и нужно, но лучше все-таки по-честному!
Впрочем, в данную минуту я бы, пожалуй, согласился с господами гуманистами. Пули искрили вдоль всего здания, и выглядывать наружу в самом деле представлялось опасным. Насколько я понял, дом штурмовали со стороны центральных ворот. Укрываясь за пальмами и цветниками, в темноте мелькали скрюченные фигурки. Трепетные язычки огня вспыхивали там и тут, выдавая присутствие стрелков. По ним, должно быть, и целила находящаяся в доме охрана.
Вновь громыхнуло где-то наверху – ничуть не слабее прежнего, однако на этот раз взрыв ничуть не ошеломил, – адаптировались, в натуре! В считанные секунды… Скорее всего наступающие били из подствольников, потому как для ракет было все-таки слабовато, а вот для гранаток – в самый раз. Но радоваться все равно было нечему, – то, что я созерцал, абсолютно не воодушевляло. Как обычно, жадные эцелопы что-то там не поделили, одна группировка пришла перетереть с другой, честный базар пацанов вылился в шумную разборку. С какой стороны ни смотри, мы здесь являлись фантиками приблудными и совершенно посторонними. Как говаривали в знаменитом фильме: «скрипач не нужен». В данную минуту это относилось сразу к троим «скрипачам». И потому с честной душой мы имели право сделать ноги, задать драпака, свалить на все четыре стороны, но… В том-то и крылась закавыка, что посторонним я себя уже не считал. Такой вот идиотский «кюл». От одной мысли, что Алиса стоит сейчас у окна – в одной сорочке, дрожащая и напуганная, мне стало не по себе. Глупая девочка, готовая разрыдаться от неосторожного слова, – какими глазами, черт подери, она взирает на все происходящее?..
– Вот что, козлики, – я обернулся к друзьям. – Судя по всему, это столичные кунаки Петра Романовича. Пришли по старой памяти перекашлять наболевшее. Нам с вами этот кашель ни к чему, так что поступаем мужественно и отважно: вот вам ключики, запирайтесь и ныряйте под койки. Кто бы не ломился, молчите в тряпочку и изображайте глубокий сон.
– А ты?
– Мне надо кой-куда сбегать.
– Подожди! Как это – сбегать? Ты можешь что-нибудь объяснить? Хотя бы коротко?
Ломаться было глупо, и уже возле дверей я обернулся.
– Чего там деется за окном, знаю не больше вашего. А проведать собираюсь дочь нашего монстра. Сами понимаете, учитель в ответе за своих учениц.
Джон поймал распахнутой пятерней связку ключей, я же выскочил в коридор. Здесь горели матовые плафоны, было дымно и жарко. Пахло чем-то химически отвратным, от чего жутко запершило в горле. Нечто среднее между жженной резиной и копченой рыбой. Промчавшись до угла, я сунулся было к лестнице, но там копошились какие-то люди. Кашляя, они поднимали по ступеням громоздкие ящики. На всякий случай я отпрянул назад, но один из них все же меня заметил.
– А ну стоять! – он вскинул руку с какой-то пукалкой – не то гладкоствольной «Сайгой, не то «Мосбергом», и пришлось изобразить ему двузубую вилку. Я не Ярмольник, но получилось у меня вполне убедительно. Разглядев мои поднятые клешни, боец снисходительно шевельнул ружьишком. Я уже понял, что это люди Петра Романовича и потому шагнул ближе.
– Свой я! Честное пионерское.
– Свой… Сейчас поглядим, какой ты свой… – оставив приятелей с ящиком, боец скакнул по ступеням, приблизившись, ткнул стволом в мою геройскую грудь. – А-а… Ты из этих придурков.
– Из психов.
– Чего?
– Мне бы пушку, в натуре. Хоть самый захудалый калибр.
– Губешки раскатал!
– Они же со всех сторон прут! Вас что, много?
– Не мельтеши, – меня отодвинули в сторону. Ящик был, по-видимому, достаточно тяжелый. Шоркая по полу обитым жестью днищем, его выволокли в коридор.
– Принесли? – кто-то уже бежал по коридору навстречу.
– Не все. Сейчас патроны затащат…
Гулко хлопнула крышка, на свет показался малютка автомат – не «Калашников», что-то более компактное, знакомое по западным фильмам. Впрочем, черт их разберет. Ни «Беретты», ни «Скорпиона», ни «Узи» я сроду в руках не держал. Кажется, начинался дележ, и я снова подступил ближе. Увы, меня снова оттеснили в сторонку – на этот раз чуть более корректно. Такие вот дела! Кругом рвалось и грохотало, а я был чужим на этом празднике жизни. Реветь от обиды я, разумеется, не собирался, однако меня все равно пожалели.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.