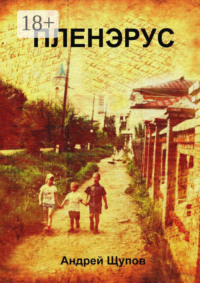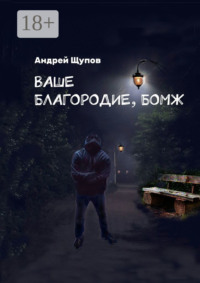Полная версия
Гастроли «ГЕКУБЫ»
Нам дали сигнал. Вернее, дали сигнал моему противнику. А я просто стоял и ждал. Но вот ведь смех, этот мускулистый здоровяк уже не рвался в бой на добивание. Чего-то он вдруг испугался и вместо того, чтобы единым тореадорским ударом окончательно сокрушить восставшего недотепу, проделал несколько опасливых кругов. Как компасная стрелка я поворачивался за ним следом, держа одну руку возле подбородка, вторую на угрожающем отлете, не предпринимая никаких попыток атаковать. Зачем бегать и догонять? Сам придет, не маленький… И, разумеется, он пришел. Я влепил ему по носу, чуть не сломав кисть. Но чуть раньше он резанул перекрестным правой. Клоунская вилка! Его отбросило на канаты, меня привычном кульбитом – все на тот же родимый пол.
Обломова, господа присяжные!..
Глаза лопнули бенгальскими брызгами, душа мыльным катышем выскользнула из постылого тела. Я уснул – и на этот раз крепко.
Глава 2 ОКЛЕМАЛОВКА
– Дурик, ты зачем вставал? – тренер Володя нервно ходил возле меня взад-вперед, словно шагами измерял длину моего распростертого тела. Тридцать восемь попугаев, восемнадцать авторучек и так далее… Я лежал на столе, но, тьфу-тьфу, не в покойницкой, – всего-навсего в мужской раздевалке.
– Ясно же было, забьет. Он же в Голландии стажировался! Без пяти минут черный пояс. У тебя что, здоровье лишнее? Лежал бы себе и лежал!
– А ты чего полотенце не выбрасывал? – я даже удивился, что первая моя фраза после выныривания из беспамятства звучит столь осмысленно и нагло.
– Тебя, осла упрямого, хотел поучить, – тренер хрустнул костяшками. – Надо все-таки соразмерять силы! Не первый раз выходишь на ринг. Можешь сражаться, – воюй, а нет, – не выпендривайся. Будешь теперь за бока держаться.
– Ничего, оклемаюсь.
– Оклемается он! – тренер продолжал похрустывать пальцами. Видно было, что он страшно переживает, но утешать его никто не спешил.
– Кирюха ему зуб вышиб! – вступился за меня Серега. – И нос чуть не сломал. Этому козлу там сейчас тампонов женских целую пачку напихали, чтоб кровью не изошел. Сам видел, в натуре.
– А ты вообще помалкивай! Визжал у ринга, как резаный. Я думал, у меня барабанки перепонные лопнут!
– Барабанные, – хмыкнул кто-то.
– Чего?
– Перепонки, а не барабанки.
– А я чего сказал? – Володя сердито засопел. – Умные все стали! Грамотные!.. Только горланить у канатов – много ума не надо.
– Так все же орали, – пробубнил Серега.
– Ты за всех не отвечай! За себя думай!.. – тренер раздраженно отмахнулся. Кроме него и Сереги тут сидела почти вся наша команда – в том числе и Толян с фиолетовой печалью под глазами, Гаря-Мальчик с рассеченной губой, Петюк, Лимон, Кащей безбровый и другие. Все глазели на меня, и никто из них, судя по всему, не был согласен с тренером. Покряхтывая, я сел, и тот же Сергуня поспешил мне на помощь.
– Ладно тебе, Володь, – пробасил Гаря. – Чего брюзжать-то теперь? Кирюха, считай, за весь наш клуб ответил. Марку чуток поддержал.
– А если бы его угробили?
– Так ведь не угробили?
Аргумент был железный, и тренер, буркнув что-то невразумительное, умолк. Крыть было нечем. Событие и впрямь произошло наигрустнейшее. Побили нас всех. Всю команду оптом. И зуб моего противника был единственным трофеем, добытым на поле брани. Капля меда в бочке дегтя. Поэтому ребята и роптали, поэтому тренер и негодовал. Ему было обиднее всех, и уж я-то точно знал, почему он не выбрасывал полотенце. Надеялся, что хоть кому-нибудь улыбнется удача. До самого конца надеялся. Чудо – оно ведь такое. Как лампа с болтающейся нитью накаливания. Вроде холодная, но в любой момен может вспыхнуть. Потому и верится в невозможное, хоть и атеисты мы все до мозга костей. И тренер наш до последнего ждал нереального, молился про себя госпоже Фортуне, а она взяла да не улыбнулась. Весело? Что-то не очень. И кто виноват в итоге? Разумеется, дурачок Бил. То бишь – я.
– Ну? Как ты? – тренер вновь приблизился ко мне, угрюмо потрепал по всклокоченной голове. – Головенка, небось, гудит?
– Есть немножко. Мне бы нашатыря в путь-дорожку. Самую капельку.
– Да совали тебе уже. Ноль внимания! Как труп лежал. Пришлось на плечах выносить… – Володя кивнул ребятам. – Проводите его, что ли, до машины. Я уже сказал водиле. Довезет куда надо.
– Да ладно, чего там! – я ухмыльнулся, однако Серегину шею все же приобнял. – Доберемся как-нибудь.
С полдюжины ладоней дружески хлобыстнули меня по спине. Это было приятно. Тем более приятно, что одна их этих ладоней принадлежала тренеру Володе. Я ЧУВСТВОВАЛ, что все они в эту минуту немножко мною гордятся. Амбразуры вражеской я не прикрыл, но ведь полз к ней! Трепыхался и полз до последнего…
На пороге дворца кто-то нас остановил. Я едва узнал своего противника. В летней куртке-дутыше, в фирменном кепи, смотрелся он матерым купчиной. Только вот рожа вся оттоптана, а из одной ноздри и впрямь торчал клок ваты.
– Ты молоток, – он ткнул меня кулаком в живот. – Держи пять, тезка. Тебя ведь Кириллом зовут?
– Точно.
– Вот и я Кирюха, – он щербато улыбнулся, и я вдруг увидел, что лицо его даже в таком жутковатом виде тоже по-своему симпатично. Бычара, конечно, но с человечьим ликом. Забавно, но так оно с нашими физиономиями и случается. Стоит чуть улыбнуться, и сразу на людей становимся похожи.
– Ты за зуб не сердись. Так уж вышло, – пробормотал я.
– Ерунда! – он отмахнулся с таким великодушием, будто этих самых зубов у него росло, как крапивы на пустыре.
– Я уже в отключке, считай, был, вот и боднул.
– Фигня! Искусственный вставлю. Все равно он у меня с дуплом был. Болел по вечерам, зараза.
– Тогда не так обидно.
– Само собой!
– А нос как? Нормально?
Он пожал могучими плечами.
– Заживет. Лепила, главное, сказал, что перегородка цела.
– Перегородка – это основняк.
– Реально – основняк. Пятак – он, считай на перегородке и держится. Не на ноздрях же!..
Мы замолчали. К нему приблизились приятели, нас обступили. Случись это где-нибудь в темном переулке, стало бы неуютно. Парни были под стать Кирюхе – бритые наголо, с воловьими шеями и крутыми плечами. На меня посматривали с любопытством.
– Ты вот что, – тезка покосился на Серегу. – Президент-то действительно в зале сидел. Он у нас вроде спонсора и куратора. Так вот. Он потом ко мне подходил, сказал, что ты ему понравился. Имеет интерес с тобой побазарить. Как ты насчет этого?
– Базар – не драка, отчего бы не поговорить.
– Вот и лады. У него и офис туточки. На третьем этаже. Любой покажет. Можешь в зал заскакивать, прикинем что-нибудь. Так что заходи.
– Спасибо. Только у меня, понимаешь, работка светит. Как раз на днях. Командировка за город.
– Понял… – Кирюха уважительно свел брови. – А сегодня, значит, прощальное танго было, так, что ли?
– Вроде того.
– Ну все равно. Как освободишься, заглядывай. Чем раньше надумаешь, тем лучше. Я уже сказал, президенту ты понравился, а он мужик из крутых. Все может. В общем забивай стрелочку и приезжай, лады? Телефон я тебе дам.
– А зачем стрелочку-то? – ревниво вмешался Серега. – Чего он ему сказать-то хочет?
– Найдутся темы. У нашего президента планы большие.
– Понятно. Мафия?
– Ага, – фыркнув, Кирюха на клочке бумаги корявыми цифирками записал телефон. Судя по всему, пальчики у него после боя тоже чувствовали себя неважно.
– Держи. И помни. Такого жеребчика у нас завсегда на довольствие примут.
– Давай, – помедлив, я взял телефон, и тезка враз воодушевился. Глядя больше на Серегу, чем на меня, веско сказал:
– У нас – не у вас. И шмотки, и пропитание. Про зал уже не говорю. В Корею с Японией выезды намечаются, шоу-турниры. А там призы не шоколадные, – в валюте. Иногда в спецзалах выступаем перед шишками.
– Это что, навроде гладиаторов?
– Ну, не совсем, но похоже. Главное – бабки солидные отстегивают, и думать ни о чем не надо.
– Это хорошо, когда бабки и думать не надо.
– А то! За год на машину заработаешь. Это я тебе говорю! Короче, соображай.
– Обязательно, – пообещал я.
– Ну давай!
Я пожал его лопатообразную ладонь, лишний раз подивившись, как такой ручищей он меня не убил. Но не убил же! И как же славно, что не убил! Потому как любо, братцы, любо, – сладко, братцы, жить! В особенности после таких потных баталий.
Мы дошли до машины, и я с блаженным вздохом упал на сиденье.
– Чего ты соображать-то собрался? – угрюмо осведомился Серега. Веснушки в сумраке салона почернели, сделав его лет на пять старше.
– Соображать никогда не вредно, – я достал написанный тезкой телефон и, скомкав, сунул Сереге за шиворот.
– Сам прикинь. Чего было обижать парня? Он зуб потерял, хоть и с дуплом.
– Он зуб, а ты – сознание,
– Сознание – что! Потерял и снова нашел, а зуб – это уже навсегда. Потому что из фарфора, Сергунь, только чашки хорошие делают, а зубы должны быть свои собственные.
Он заулыбался, дурак такой, и я вдруг понял, что этот похожий на суслика подросток по-настоящему привязан ко мне. Где-то по-своему даже любит. Я тоже расплылся. Хорошо, когда тебя любят. Особенно, когда ты слаб, немощен и болен. Сильных легко любить, а вот слабака какого-нибудь, пьяного в зюзю или недобитка раненного – этих любить всегда не просто. Так-то, братцы кролики…
***
Катька охнула, но в обморок рушиться не стала. Все-таки не башня – не Невьянская и не Пизантская. Сказав Сереге: «Эх, ты, а еще друг…", она пошла готовить примочки. Серега поглядел на меня страдальческими глазами и жалобно попросил:
– Я приму у вас душ? В общаге опять ни горячей, ни холодной.
Я великодушно кивнул. Мне что, – воды Катькиной жалко? Льется себе и льется.
Есть не хотелось, хотелось пить. Чего-нибудь кислого, потому как сотряс – то же похмелье. Его надо окислять – и по возможности активно. Поэтому я нацедил в стакан апельсина с лимоном, разбавил водой и выдул одним махом. Рухнув в кресло, включил магнитофон и напялил на голову наушники. Что-нибудь тихое и вдохновляющее – вот чего мне сейчас хотелось. Какой-нибудь Патрисии Каас, к примеру, Дассена или «Реквием» Моцарта. От последнего всегда торчу, хоть и не писал маэстро партий для электрогитары. Упущеньице, конечно, но простимо. Не было во времена Амадея электричества. Не придумали еще. Свечки жгли с лучинками, а вместо электрогитар – на скрипках наяривали да на органах. Тоже, кстати, хороший ход, потому как орган по сию пору – самый «роковый» инструмент. Круче не изобрели. Да и скрипку не всякий синтезатор передразнит. Потому как слабо.
Короче, кассету я извлек с нужной наклейкой, однако заиграл почему-то не Моцарт, а «Мунлайт ин Москоу» Криса де Бурга. Этого ирландца я тоже уважал. Ирландцы – вообще талантливый народец. Дружок мой Вараксин как-то утверждал, что талант – закономерная черта всех угнетаемых племен. Вроде компенсации за невеселую жизнь. И те же гонимые поляки в труднейшие из своих времен подарили миру Митцкевича, Шопена, Огинского. Ирландцы тоже сплошь и рядом удивляют музыкальным даром. Может, и правда, что, не пострадаешь, не поешь? В смысле, значит, не сотворишь… В общем пока я балдел от аглоязычного музона, Катерина потихоньку раздела меня и уложила на застеленный диван. На нос, на виски и под глаза налепила свинцовых примочек, поставив рядом таз, обтерла меня с ног до головы – сначала водой, потом лосьоном. Это я давно заприметил, запах пота ей почему-то не нравился, а вот терпкий, кувалдой бьющий по мозгам лосьон – как раз наоборот. Одно слово – женщины. Трудно их понять, но я привык. Принял, как говорится, за аксиому. Впрочем, черт с ними – с запахами, другое обидно – очень уж деловито обихаживала меня Катюха. Без трогательной нежности я бы сказал, без щемящего трепета. Именно поэтому, вторя напевам Криса де Бурга, я проныл:
– Катюх, сегодня меня в пах били. Грубым и толстым коленом. Как последнего пацака!
– Не ори! – она постучала себя пальцем по уху.
Тут она была права. Когда я в наушниках, я всегда ору. И все же мне хотелось поплакаться.
– Теперь я не смогу заниматься с тобой ничем. Врач сказал, воздержание три года, представляешь?
– Вот дурак!
– Ты меня теперь бросишь, да?
– Такого хилого и глупого – грех не бросить.
– Сам знаю. Таких любить трудно. Это сильных да умных – просто, а ты – меня попробуй. Как Сергуня.
– Уже пробовала.
– И как?
– Горьковато…
Я подумал, что она снова намекает на запахи, и еще раз уточнил:
– Так ты меня разлюбишь или нет?
– Или да, если ты не бросишь свой носорожий спорт.
Я призадумался.
– Больно заковыристо для сотрясенного разума. Или да, если не…
– Я говорю, бросай спорт, тогда потолкуем! – крикнула она, приподняв один из наушников.
– Брошу. Обязательно и наверняка. Ты же знаешь, я еще ни одного дела до конца не доводил. Так будет и с боксом.
В наушниках загремел рок-н-ролл Меркьюри. Не выдержав, я вскочил с дивана. Примочки посыпались на пол.
– Слушай, нам надо немедленно потанцевать!
– Ты сдурел? У тебя голова разболится!
– Она и так болит. Давай, пока он поет.
– Кто – он?
– Неважно, – я задвигал руками и ногами, изображая танец. Жаль провод не давал далеко разбежаться. Словно собачонка вокруг конуры, я вертелся вокруг магнитофона, выделывая голым телом довольно рискованные пируэты. Не верите, попробуйте сами – с сотрясенной головой да под Меркьюри. Катька держалась за живот и покатывалась со смеху. Блондинки – они все смешливые. Ленка, к примеру, – шатенка, а потому любит молча вздыхать, то и дело ныряя в океан своих внутренних миражей. Потому, наверное, и не поехал к ней. Какая, к черту, медпомощь! Положит мне руку на лоб и сочувствующе замолчит. Катька же дама активная, а по части похихикать да похохотать – и вовсе сущий талант! Час может смеяться! Правда-правда! Мне через пять минут плохо становится, а ей и через час хоть бы хны. И что с нее взять? Глупая она у меня – Катюха. Хоть и с феноменальной грудью. Куда там Мэрилин Монро до ее бюста! Если бы еще ума побольше, цены бы девочке не было. Но, видно, ум ее весь в грудь ушел – в оба, так сказать, полушария. Потому и судит всех подряд, причесывая под одну гребенку. И я у нее всегда самый худший, самый ленивый, самый тупой и нескладный. Но мне не обидно. Годика через три, когда ей натикает, как мне сейчас, девочка, разумеется, поумнеет и все поймет. Правда, что именно поймет, я себе не слишком представлял, но так уж талдычат седобровые старики. Не врут же они всем скопом! Что-то ведь мы должны понимать в свои двадцать три года. Как ни крути – возраст! Дартаньян у Дюма – был куда моложе. В сущности – юнец сопливый, а туда же – влюблялся, за моря плавал, людей мочил направо и налево. При этом музыки нашей не слушал. Ни Меркьюри, ни Патрисии Касс, ни Поля Мориа. Несчастный, если разобраться, парень.
– Сильных любить легко! – напевал я. – Ты слабака, подруга, полюби! Чтоб грязный, потный и без глаз. Вот это, стало быть, любовь! Вот это чувство! Ну, а сильных… Сильных, моя голуба, если хочешь знать, вообще не любят!
– Как это? – Катька, сбросив с себя халатик и трусики, заприплясывала рядом со мной. Тяжелые, удивительных форм груди покачивались совсем рядом, дразня и отвлекая внимание, заставляя тянуться и тянуться к ним руками. Музыки она, понятно, не слышала, но копировала мои движения довольно точно. Я же говорю, – талантливая девка!
– А так, – заорал я. – Любовь к сильному – это эгоизм, а не любовь! Могучая спина, здоровое потомство – при чем здесь любовь? Чистой воды эгоизм! Поэтому платоники – самый передовой народ на земле. Даже лучше ирландцев.
– Чего же ты возле меня отираешься?
– Потому что с самого начала чуял в тебе душу, потому что знал, рано или поздно этим кончится, – я весело помахал руками, изображая улетевшее счастье. – Коленом в пах – и адью! Но платонически я буду тебя любить еще довольно долго. Может быть, даже лет до сорока трех.
– А дальше?
– Не знаю. Дальше ты станешь пенсионеркой, а этого я еще не проходил.
– Ой-ей-ей! – Катька скосила глаза куда-то вниз. – Похоже, с травмой у тебя не слишком получилось.
– Точно, – я сконфузился, – как же оно так…
А через минуту, накрывшись пледом, мы уже вовсю копошились на диване. Наушники с меня слетели, но мне было не до них. Платонизм, конечно, славная штука, но ведь как-то обходился я до этого без него, правда?
За нашими спинами скрипнула дверь, и, подняв голову, я рассмотрел мокрого Серегу. Часть своих веснушек он то ли просыпал по дороге, то ли смыл водой. Чистенький, кудрявый, румяный, аки ангел, он таращил на нас глазенки и ничего не понимал. Так и чудилось, что сейчас спросит: «А чё это вы тут делаете?..»
– Ой! – Катька высунула голову из-под одеяла и прыснула. – Я думала, он уже ушел.
– Я это… Насчет полотенца.
– У них в общаге нет воды. Ни горячей, ни холодной, – пояснил я.
– И полотенец тоже нет?
Серега ошарашенно кивнул. До него наконец дошло, чем мы тут занимаемся. Грамотный сорванец!
– Я тебе его принесу, – Катька пальцами изобразила идущего человека. – Только ты выйди на пару минут, ага?
– На пару? – удивился Серега.
– На три, – уточнила Катька.
– На восемь, – подытожил я.
– Ой-ли? – Катька хихикнула.
– А вот увидишь!..
Голова болела, сердце екало от радостных и непонятных вещей. Хотелось танцевать и жаловаться на измученный ударами мозг. Я и жаловался. Таким вот заковыристым образом. Меня ласкали – и как бы жалели.
Один из моих соседей – девятилетний мальчуган частенько прогуливает во дворе свою трехлетнюю сестренку, беспрерывно тетешкаясь с ней, целуя в пухлые щечки. Спровадив ее домой, он с удовольствием хулиганит. Временами мне кажется, что я – это он, а он – это я. И когда я бываю пьян, я протягиваю ему руку, как мужчине. И вы мне не поверите, он снисходит до меня. Мы садимся на лавочку, лузгаем семечки и беседуем. Я рассказываю ему про Катьку с Ленкой, про тренера Володю, мечтающего о чемпионах, про электрогитары и политических врагов страны. Он хвастается ростом сестренки и говорит, что у них в классе тоже есть пара гадов, с которыми он дерется по три раза в день, а потом, демонстрирует мне корявую рогатку, торжественно обещая, что, тренируясь каждый день, постепенно доведет меткость до фантастических результатов, научившись попадать с пятидесяти шагов в спичечный коробок. И что вы думаете? Я ему верю! То есть сам-то я с пятидесяти шагов в коробок никогда не попадал. Даже из мелкашки. Но что с того, черт подери? Дети должны идти дальше своих отцов, разве не так?..
Глава 3 ЧЕРТИК ИЗ КОРОБОЧКИ
Ночь прокатила на ять, утро прошло без зарядки. То есть зарядка, разумеется, была, но в основном – тазобедренная, без гантелей и эспандеров. Завтрака, правда, толкового не получилось, – спешили. Поэтому у Катюхи я только заморил червячка, более же основательно решил подкрепиться дома. То есть, конечно, если найдется чем. Но нашлось, тетушка не подвела. Правильно пел Мягков в той славной песне: если у вас нету тети, то вас отравит сосед. Мне подобная жуть не грозила. В холодильнике оказались остатки грибной пиццы, наваристый борщ и початая бутылка «Монарха». Пиво, надо полагать, не допил тетушкин ухажер. Нашел занятие более приятное. Что ж, молодец, коли так! По жизни – оно вернее не отвлекаться на мелочи.
Я разжег плиту, поставил разогреваться супешник, на крышечку кастрюльки, точно на сковородку, выложил венчиком нарезанные куски пиццы. Дешево и сердито. Ленка-аристократка меня бы не поняла, а вот Катюха и сама так иногда делает – больше из-за баловства, чем из лени. Да и мне со сковородой возиться не лень – просто жаль времени. Сковородку-то потом мыть надо! А здесь сполоснул – и все дела! Прогресс, братцы, как ни крути, все равно двигают лодыри. Научно обоснованный факт!
Очень скоро борщ зафырчал и забулькал. С пиццей в одной руке и ложкой в другой я принялся восстанавливать истаявшие силы. На ринге меня вычерпали на две трети, остаточки высосала Катюха. И дело тут даже не в физиологии. Я же марафоны пару раз бегал, со спарринг-партнерами по пятнадцать раундов напрыгивал! Посчитать по калориям – так на дюжину Катюх должно хватить. Ан, нет, – не хватает! Значит, прав Леха Вараксин, говоря, что женщины это космический вакуум, который помимо ласк забирает нечто более весомое. Может, и впрямь какую-нибудь жизненную энергию. Потому и кружится после голова, потому и уходишь опустошенный. Хотя, как говаривал покойный Савелий Крамаров: делов-то сделано – на копейку! У них, кстати, картина совершенно обратная: веселятся, хохочут, в магазин за пивком вызываются сбегать. Так что поневоле задумаешься, у кого убыло, а у кого прибыло.
В момент выхлебав борщ, я с бутылью «Монарха» медленно обошел всю нашу далеко не бескрайнюю квартирку. Цицерон, говорят, сочинял длиннющие речи, гуляя по комнатам своей домины. Заставлял работать ассоциативную память. В наших условиях, точнее – в моих, спич получился бы в два слова, максимум – в два предложения. Хотя если еще выйти на балкон, а после заглянуть в туалет, выйдет чуток подлиннее.
Я сыто икнул. Куда, интересно, они удрали? То бишь, тетушка с ухажером? В кино или в цирк? Куда вообще нынче ходят влюбленные старички?..
На балкон приземлилась парочка воробьев – он и она. Воробей влюбленно чирикал, воробьиха, раззявив клюв, зачарованно слушала. Я снисходительно улыбнулся. Ничего не поделаешь, как множество других обделенных железным занавесом, тетушка переживала позднее половое взросление. То, чего всю жизнь стыдились, неожиданно оказалось делом совсем иного порядка, не лишенным волнующей прелести и обычной физиологической пользы. Перестройка дала пинкаря по мозгам, и над страной грянула сексуальная революция. Тетушкин сумрачный аскетизм сменился воодушевленным ожиданием счастья. Кто сказал, что пираты под алыми парусами не приплывают к сорокалетним? Были бы, как говорится, паруса, а ветер найдется. На моих глазах тетушка превратилась в некое подобие Золушки. В доме объявились помады и тональные крема, возле зеркала в прихожей выстроилась добрая шеренга разномастных парфюмерных жидкостей, старушечье «заколенное» платье сменила кокетливая юбчонка. По счастью, у меня хватило ума не ухмыляться и не брыкаться. Возможно, я еще помнил, что сам обитал здесь на птичьих правах, а может, сообразил, что и сорокалетние заслуживают некоторых жизненных благ. В самом деле, чем они хуже нас? Тоже, если разобраться, живые люди! Во всяком случае перемены шли тетушке на пользу. Она расцвела, научилась улыбаться, стала гораздо спокойнее относиться к моим синякам и поздним возвращениям домой. Однажды и вовсе умилила, когда в день моего двадцатилетия к подарочному галстуку присовокупила пачку презервативов. Во всяком случае я с изумлением понял, что меня наконец-то посчитали взрослым. Если прикинуть, – подарок из крутых! Не всякий родитель наберется отваги преподнести такое! Значит, что? Действительно плюрализм и демократия? Всеобщее равенство и братство? Может, и газеты пора приниматься читать? А что? Раз такое деется! Еще парочка-другая шагов – и, глядишь, бумкнемся лбом о конфетно-розовый фасад коммунизма!.. Несколько смущаясь, тетушка усадила меня за праздничный стол и сбивчиво поведала о таинствах совместного существования тычинок и пестиков. Я месил зубами «Орбит» и рассеянно думал, что на наших глазах творится история. Потому как, братцы мои, история – это не генсеки и не перекраска знамен, это то, о чем хотят и могут говорить люди. Потому что сначала было слово, а уж потом все прочее… Короче говоря, объяснив про осеменение рыбьих икринок и попугав напоследок латынью венерических заболеваний, тетушка добила меня рассказом о безответственности иных соитий.
– Я знаю, ты, наверное, еще стесняешься покупать в аптеках эти предметы (она так и сказала: «предметы»! ), поэтому я решила тебе помочь. Если понадобится еще, обязательно скажи мне. Ну, а как ими пользоваться, ты, надеюсь, догадаешься.
– Догадаюсь, тетушка. Ты просто прелесть! Главное – сама не залети!
– Кирилл! Что ты такое говоришь!
– Молчу, молчу!..
Жизнь стала меняться, и нельзя сказать, что в худшую сторону. Но иногда из квартиры меня теперь выставляли. Корректно и твердо. Всякий раз тетушка не забывала извиниться, да я и не думал обижаться, находя приют либо у Катюхи с Ленкой, либо в многокомнатной квартире Лехи Вараксина, моего корешка и нашего незаменимого басиста. Жизнь – это жизнь, за тетушку можно было только радоваться.
Дожевав пицу, я устроился перед телеящиком и лениво застучал по клавишам дистанционного пульта. Политиков послушно сменили американские гангстеры, гангстеров – полицейские, а в конце концов возник старенький Таривердиев, играющий что-то на пианино. Одним ухом прислушиваясь к бурчанию в животе, вторым – к Таривердиеву, я откинулся на спинку кресла и сомкнул веки. Еще бы юную Пугачеву запустили, совсем стало бы хорошо. Скажем, что-нибудь из «Иронии судьбы»… Лучшие, если разобраться, из ее песен. Недаром Вараксин так и поделил времечко: эпоха ранней Пугачевой, эпоха поздней Аллы. Есть в этом некий потаенный смысл. Определенно есть…