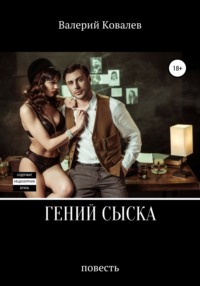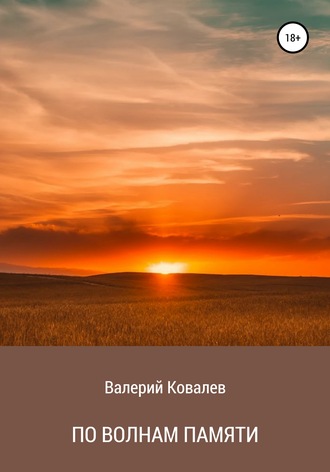
Полная версия
По волнам памяти
Он опустил уши шапки, часто хлопал руками по бокам и пристукивал сапогами.
– Ну, как, все стоит? – спросил, вернувшись со двора, пахнувший морозом, отец.
– Ага, – ответил я. – А колонны нету.
Не раздеваясь, отец прошел ко мне, с минуту глядел в стекло, а потом, снова вышел.
Вскоре он стоял рядом с бойцом, они о чем-то поговорили и направились к нашему дому.
Затем на веранде хлопнула дверь, за ней вторая и на кухне, в облаках пара, появились отец с солдатом.
– Надя! – позвал отец маму.
Чуть позже, сняв шапку и поставив рядом в угол автомат, русоголовый солдат с аппетитом уплетал за кухонным столом, жареную картошку на сале.
Мне же было поручено смотреть в окно и предупредить о появлении колонны. Трасса оставалась пустынной, мама налила гостю чаю, а к нему наложила в блюдце вишневого варенья.
После чего ушла в зал, где снова занялась вышиванием.
Все это время я одним глазом смотрел на трассу, а вторым на автомат. Никогда такого не видел.
Те, что показывали в военных фильмах, были с куцыми дырчатыми стволами и круглыми дисками, а этот совсем другой. Похожий на игрушку.
– Что, нравится? – перехватил мой взгляд, солдат, прихлебывая горячий чай из чашки. – Можешь потрогать.
Я слез со стула и, пройдя на кухню, осторожно коснулся автомата. Он был холодный, чуть пах смазкой и с мелкими каплями на металле.
– Так, спасибо вам за все, – поднялся со стула гость.
Затем он протянул мне руку «дай пять пацан», и я шлепнул в нее ладошкой.
После солдат поправил торчащие за голенищем флажки, натянул на голову шапку, прихватил свой автомат, и они с отцом вышли.
Через несколько минут, он вновь стоял на перекрестке, а вскоре со стороны центра подошла колонна.
Впереди рулил зеленый «бобик», за ним десяток, с брезентовыми тентами таких же грузовиков, к которым были прицеплены с длинными стволами пушки.
Наш солдат выбросил одну руку с трепещущим флажком вперед, а вторую вскинул над головой.
Колонна, урча моторами, медленно потянулась в сторону заснеженной степи.
Миновав перекресток, последняя из машин на несколько секунд остановилась, из-под тента высунулась рука, боец влез в кузов, и автомобиль снова тронулся.
– Пап, а пап, – обернулся я от окна, к стоявшему рядом отцу, когда трасса опустела, и машины скрыла летевшая вслед поземка. – У тебя на войне были такие пушки?
– Это гаубицы, сынок, – ответил он. – Мои были калибром меньше.
Мороз и солнце
Выйдя за ворота с лыжами и палками в руках, я, паря ртом, оглядываю пустынную, с сугробами вдоль заборов, улицу, и поглубже натягиваю на голову шапку.
Сегодня в школу идти не надо. На улице мороз за двадцать, занятия отменены, и я радуюсь.
Улица – не школа, ее никто не отменял, а потому нужно подышать свежим воздухом.
Воткнув палки в снег, я кладу лыжи рядом стягиваю с руки варежку и, сунув в рот два пальца, издаю резкий свист.
С высокого тополя на углу, срывается стая дремавших там галок и с карканьем уносится в небо.
Из двора напротив тут же раздается ответный, потом открывается одна из створок ворот, и наружу выходят мои друзья, Сашка с Вовкой. Оба тепло одеты, в руках палки с лыжами.
Сашка учится в пятом классе, я в четвертом, а Вовка второклашка.
Прошлым вечером мы договорились с утра отправиться на Буровую.
Буровая – это степной курган в паре километрах от городской окраины, с которого можно с ветерком скатиться вниз. Что нам весьма нравится.
– Ну как, пацаны? – вопрошаю я через дорогу. – Готовы?
– А то! – отвечает Сашка, Вовка молча кивает.
Затем мы прилаживаем к ногам лыжи с ременными креплениями, берем в руки палки и выбираемся на проезжую часть. Ее после снегопадов регулярно чистит трактор.
У крайнего справа дома, пересекаем отвал, за которым сбоку уходящей в степь трассы, виднеется наезженная лыжня. Ее проложили солдаты.
Сразу за нашей улицей военная часть. Охраняющая лагерь строгого режима.
Летом, по утрам, солдаты бегут трехкилометровый кросс, в направлении Буровой, а зимой, обычно по субботам, такой же, но на лыжах.
Вот они и накатали след, на который мы быстро выбираемся.
Лыжи отлично скользят, впереди Сашка, я за ним, Вовка замыкающий.
Когда наша улица, с поднимающимися вверх белыми столбами дыма над крышами остается позади, мы прибавляем ходу и, сопя носами, вразмашку машем палками.
Вскоре Вовка отстает, а мы с Сашкой мчимся наперегонки.
Примерно через километр останавливаемся у заснеженной воронки, откуда торчит здоровенный куст шиповника, стягиваем с рук варежки и лакомимся его ягодами, выплевывая изо рта косточки.
Чуть позже к нам присоединяется Вовка.
Погода, между тем, на глазах меняется: небо становится ясней и выше, в нем проглядывает серебристый диск солнца.
– А мороз – то, того, вроде отпускает, – говорю я.
– Ну да, – щурится вверх Сашка. – Едем дальше.
Он первым берет в руки палки, сходит с наезженной колеи в пушистый снег, и торит дорогу в сторону виднеющегося впереди кургана.
Мы с Вовкой скрипим лыжами за ним, продвижение замедляется.
Но вот и конечная цель, останавливаемся у подножия. Осматриваемся.
Курган в десяток метров высотой, с железной треногой на верхушке, слева пологий, уходящий вдаль, склон, переходящий в заснеженную равнину.
Посередине ее школьный сад, с заиндевелыми деревьями, за ним просматривается одинокий хутор. С его островерхих крыш в небо тоже поднимаются дымки. Как на нашей улице.
– Ну что, айда наверх? – оборачивается к нам Сашка.
– Айда, – отвечаю я, и мы, раскорячив лыжи углом, взбираемся на курган.
Оттуда обзор еще шире.
Метрах в двухстах за ним высится массив водокачки и домик смотрителя, а вдали чуть просматривается Мазуровская балка.
Я первый, – говорит Сашка, поправив крепления, вслед за чем отталкивается палками и, пригнувшись, несется по склону вниз. В сторону сада. За ним поднимается снежная пороша.
Через пару сотен метров движение замедляется, Сашка останавливается и машет нам рукой, – давай следующий!
Я ступаю в оставленный им след, и тоже мчусь вниз, в ушах свистит ветер. Лыжня удлиняется еще, последним съезжает Вовка.
Около часа мы поочередно скатываемся вниз, хохоча от избытка ощущений.
К этому располагает и ставшее голубым небо, с висящим в нем солнцем, нестерпимый блеск снега, а также пахнущий антоновкой воздух.
– А может мотнемся на Кухарев бугор? – предлагает после очередного спуска Сашка.
– Мотнемся, – соглашаемся мы с Вовкой.
Снова выстроившись по ранжиру, скрипим лыжами по белой целине в сторону школьного сада.
Первые деревья в нем сажали еще наши деды с бабушками, потом родители, а прошлой весной и мы. Вроде как традиция. Сад будь здоров, несколько гектаров, летом и осенью в нем полно яблок с грушами и слив, которыми все лакомятся.
Миновав сад, принимаем чуть вправо и, минуя опушенные инеем кусты терна, в которых прыгают синицы, спугиваем зайца.
Он выскакивает из-под ног Сашки и в снежной пороше катится в сторону Мазуровской балки.
–Улю-лю! – вопим мы вслед ушастому, а когда он исчезаем, двигаем дальше.
Спустя полчаса достигаем бугра, который с нашей стороны является фактически плоскогорьем. А вот с другой, за ним, уходящая далеко вниз, обширная пологая долина. Слева, в туманной дымке, на ее склоне просматриваются окраинные поселковые дома, а справа каменное, с выходами плитняка, глубокое ущелье.
Мы берем курс к центру и вскоре останавливаемся на склоне.
Там несколько минут осматриваемся, прикидывая, где удобней спуск, затем Сашка отталкивается палками и, пригибаясь, несется вниз.
– Ш-ш-ш, – искрится за ним снежная пыль.
Подождав, когда он спустится, я поправляю шапку и делаю шаг вперед. В ушах свистит ветер, – хорошо! Ощущение полета.
Через несколько минут, заложив вираж, я встаю рядом с Сашкой, и мы машем руками Вовке.
– Давай, спускайся!
Тот машет в ответ, примеряется и тоже несется вниз, но в самом конце спуска падает.
– Га-га-га! – весело хохочем мы, после чего извлекаем мелкого из снега и отряхиваем.
– На кочку попал, – бурчит он.
– Бывает.
Затем, растопырив лыжи «елочкой», мы, сопя, поднимаемся вверх. А оттуда опять летим вниз. С замиранием сердца и криками восторга.
Когда солнце начинает клониться к западу, возвращаемся назад. Усталые, но довольные.
– Хорошо бы и завтра такой мороз, – говорю я.
– Это да, – отвечает Сашка.
Ножички
Когда я учился в младших классах, у пацанов в моде была игра в ножички.
Имелись они у всех, как правило, перочинные.
Соперники очерчивали на земле круг, поперек проводили черту: одна часть твоя, вторая моя и по очереди метали в чужую.
Если нож втыкался, «отрезали» себе часть, и так до тех пор, пока у соперника оставалось земли с Гулькин нос. То считалось победой.
Ножиками мы гордились и мечтали иметь финки.
Что было неудивительно. В городе, а точнее на его окраине имелся лагерь строгого режима, а в соседнем Перевальском районе второй – общего.
Часть освобождавшихся оттуда, оседали в наших местах и устраивались работать на шахты. Заработки там были будь здоров, особенно на молотковых лавах.
Ну и естественно, привносили с собой, блатную романтику. На которую так падки пацаны: особый говор, показной шик и повадки.
У них мы научились играть в очко*, делать в драке козу*, а еще узнали, что лучший друг – финка.
Ну, и естественно, захотели такие иметь.
А как? Бывшие сидельцы научили.
Надо было купить десяток пачек чаю, подобраться в удобном месте к лагерной ограде и метнуть в рабочую зону посылку с запиской: «меняю на перо*». На следующий день или чуть позже, в то же место прилетала обратная, с товаром.
У некоторых старших ребят финки уже были. Теперь мы знали, откуда.
– Ну шо, пацаны, рискнем? – сказал мой близкий друг Женька Цивенко, мне и Кольке Зайцеву, затягиваясь сигаретным окурком. Женька был самый старший и умный: отлично играл в жошку*, а еще мог шевелить ушами
– Рискнем – переглянулись мы. – Дай зобнуть*
Стали готовиться к операции.
Она упрощалась тем, что был июль, а одна из улиц нашего поселка, выходила огородами, к боковой ограде лагеря. В конце каждого росли кукуруза с подсолнухами, откуда можно было к ней незаметно подобраться
За пару дней насобирали по посадкам и сдали в магазин три авоськи бутылок из- под ситро и водки, закупив на полученные рубли чаю.
Пачки, вместе с запиской, поместили в старую сумку от противогаза, и одним вечером, когда в небе зажглись звезды, отправились на дело.
Со стороны степи прокрались в подсолнухи крайней усадьбы, насколько было можно, подползли к бетонной ограде. Метрах в пяти от нее, ближе к нам, имелась вторая, пониже, из колючей проволоки
Я, приподнявшись, метнул сумку и… Она зацепилась лямкой за тянущийся по стене провод.
–У-у-у! – истошно завыло в лагере, на угловой вышке вспыхнул прожектор, а потом хлопнул выстрел и загавкали собаки
– Тикаем, пацаны, – прошипел Женька, мы раком выползли с огорода и драпанули в степь. Там отдышались за терриконом старой шахты, а когда все утихло, вернулись в поселок и разошлись не солоно хлебавши, по домам.
Но от задуманного не отказались.
Вскоре через нашу улицу стали водить на работу в карьер, (он был в Краснопольевском лесу), большую группу заключенных. Утром туда, вечером обратно. Охранял их десяток автоматчиков с собаками.
На следующий день, в том же составе, мы увязались за колонной, следуя на приличном расстоянии. Когда улица осталась позади, она, миновав центр поселка, спустилась в зеленую, с узкой речкой долину, на склонах которой рос лес, а справа, на опушке, рыжел карьер.
До войны в нем ломали песчаник на различные постройки, а потом забросили.
Перейдя по плоским замшелым валунам, бегущий поток, мы выбрались на другой берег, юркнули в лес, и по кустам пробрались к опушке.
Там влезли на раскидистый старый дуб, откуда просматривался карьер, размером с три футбольных поля.
Он был окружен высокими столбами с колючей проволокой, в которой имелись ворота (рядом будка), по углам, похожие на скворечники вышки, а внутри несколько гусеничных тракторов, автокран и бочки с горючим.
У ворот колонна встала, часть охраны поднялась на вышки, после чего створки распахнули, и она прошла внутрь.
Вскоре закипела работа: зэки махали кайлами, урчали трактора, запахло соляркой.
Понаблюдав, спустились вниз.
– Все ясно, – цикнул слюной в траву Женька.– Когда в карьере никого не будет, проникнем внутрь и сделаем закладку.
– А как зэки ее найдут? – засомневался Колька.
– Оставим там знак – сказал я. Мелом. На том и порешили.
Еще через день, купив по прежней схеме чая, упаковали его в бумагу, перевязав шпагатом, прихватили кусок мела и вечером, когда колонна прошла обратно, потопали в карьер.
Как и ожидалось, там никого не было. Только молча стояла техника.
Проползли под проволоку, оттуда перебежали к забою и в щель меж песчаных плит, запихали сверток. А сверху намалевали стрелу, острием вниз.
Тем же макаром вернулись назад и пару дней обождали.
На третий, вечером, наведались в карьер – вместо нашего свертка в щели лежал другой, меньше.
Цапнули и скорее назад. Пролезли под колючкой, развернули в кустах, там финка. Небольшая, с острым жалом и наборной рукояткой. А на мятом куске бумаги, изнутри, написано: «еще столько чаю и будет вторая».
Эту финку взял себе Женька, а потом выменяли еще две – мне и Кольке.
Но были они у нас недолго.
Свою я вскоре променял на самопал, Женькину отобрал старший брат, а Колькину кто-то спер из портфеля в школе.
Примечания:
Очко – разновидность карточной игры.
Коза – тычек растопыренными пальцами в глаза (жарг.)
Перо – финка (жарг.)
Зобнуть – покурить (жарг).
Ласточки
В детстве я любил следить за ласточками, которые жили в своих лепных гнездах под соломенной стрехой дедушкиной хаты. Целыми днями, с веселым писком, они носились через сад к недалекому ставку и обратно.
Как любому пацану, мне хотелось поближе рассмотреть их необычные жилища, а если повезет, то и стырить оттуда яичко.
Одним утром, кряхтя и надрываясь, я притащил из сада тяжеленную лестницу и стал пристраивать ее к беленой стене хаты.
– Не смей зорить гнезд, – послышалось сзади. Рядом стояла бабушка с подойником в руке.
– Ну, ба, я только посмотрю, – заныл я.
– Сказала, не смей, а то ластовицы хату спалят.
– Это как? – выпучил я глаза.
– Принесут горящую ветку или уголек и бросят на стреху. Они птицы умные и обид не прощают.
Бабушкиным словам я не поверил и, как оказалось, зря.
Следующей весной, в мае, когда ласточки вернулись в свои гнезда из теплых краев, одно из них оказалось занято воробьем.
На возмущенный писк хозяйки тот ответил грозным чириканьем, и возникла драка.
Закончилась она победой воробья, который клевал ласточку из гнезда и отказывался его покинуть.
Несколько минут она с товарками металась перед своим домиком, а затем вся стайка упорхнула в строну ставка.
И стало происходить что-то, на первый взгляд, непонятное. Возвращаясь, каждая из птичек на короткий миг приникала к отверстию гнезда и вроде бы клевала его. Затем ее место занимала очередная, и так продолжалось около часа.
А когда их стремительный полет закончился, гнездо оказалось замурованным.
С тех пор прошло много лет. Давно нет бабушки, тех ласточек и гнезд.
А вот история эта в памяти осталась. Навсегда…
Южная ночь
Дивная южная ночь. На небе тысячи мерцающих звезд. Спящее в долине село в кипени вишневых садов, ленивый брех собак.
И над всем этим неповторимое щелканье соловья, где-то в балке за Донцом.
Затем скрип двери в одной из хат, всплеск света и рев пьяных голосов:
– По До-о-о-ну гуляет, ка-а-а-зак молодой!!!
А ведь как хорошо было…
Полкан
Жаркий полдень июля. На небе ни облачка. В прохладной тени старого ореха, у дощатой конуры дремлет лохматый Полкан. Изредка он приоткрывает янтарные глаза и наблюдает за курами во дворе. Одни из них тоже застыли в полудреме, другие, распушив крылья, купаются в теплом песке у забора, а самые трудолюбивые что-то высматривают и клюют на зеленой лужайке у колодца.
Изредка одна из несушек неспешно шествует в курятник, откуда спустя какое-то время доносится радостное кудахтанье, возвещающее мир о появлении очередного яйца. Полканом оно воспринимается внешне безразлично. Он вздыхает и чуть шевелит ушами.
Но вот одна из куриц привычно направляется к его конуре. Собачьи глаза открываются, а хвост начинает дружески помахивать.
Как только несушка исчезает в ней, пес вскакивает, приваливается боком к лазу конуры и грозно поглядывает по сторонам. Когда же раздается знакомое кудахтанье, он освобождает лаз и выпускает гостью.
Затем ныряет в конуру и через секунду появляется оттуда с яйцом в зубах. Улыбаясь мохнатой мордой, бережно кладет его на землю и с наслаждением съедает.
Затем ложит голову на лапы и с вожделением смотрит на кур.
– Ну, идите же скорее, – читается в глазах.
Щедрый вечер
Сам я родом из села Лозовая Павловка, что близ Северского Донца. Оно древнее, основано еще запорожцами во времена Екатерины. От старых времен остались белокаменная церковь, малороссийская речь и непременное колядование на рождественские святки.
… Раннее погожее утро. Пахнущий антоновкой искрящийся снег, скрип колодезных журавлей на улицах и поднимающиеся высоко в небо белесые столбы дыма над соломенными крышами хат.
То там, то здесь, на сельских подворьях слышится заполошный визг свиней или крики домашней птицы, которых рачительные хозяева режут к рождеству.
Наскоро похлебав гречневой каши с молоком, мы с мамой и пятилетней сестричкой одеваемся и спешим в центр села, к дому деда, колоть кабана.
Отец ушел туда затемно – точить ножи, таскать солому и готовить кадки под сало.
Посреди обширного дедушкина двора толстый слой ржаной соломы и дубовая колода для разделки туши, с торчащими из нее ножами. Рядом о чем-то степенно беседуют и смалят цигарки отец с дядей, а у конуры гремит цепью и нетерпеливо повизгивает мой друг, лохматый овчар Додик.
– Ну вот, и помощники пришли, – появляется из сада кряжистый дед Левка, с навильником золотистой соломы, – давайте пока к бабке, в хату, мы вас покличем.
По давней традиции, женщинам и детворе присутствовать при забое возбраняется. Зато потом без нас не обойтись. Мы это знаем и чинно шествуем в хату.
В сенях стоят две липовые кадки и исходят густым паром несколько чугунов и ведер с кипятком
С порога в нос шибает ванильной сдобой квашни, над которой колдует бабушка и запахами сушеных груш из бурлящего в печи ведерного чугуна. Здесь же, на кухне, суетятся две моих тетки, а в просторной горнице, на полу, устланному домоткаными дорожками, возятся с котенком двоюродные братишка с сестренкой – двойняшки.
Нас с Лорой раздевают и отправляют к ним, а мама остается на кухне.
– Ну шо, мелюзга, не побоитесь кататься на кабане?, – спрашиваю у двойняшек.
– Не-е, – вертят они тонкими шейками, – мы уже большие.
– Побачим, – бросаю я, и, встав на цыпочки, подтягиваю гирьку на звонко тикающих ходиках с бегающими кошачьими глазами на циферблате.
В прошлом году малыши разревелись, когда увидели неподвижным своего любимого ваську и наотрез отказались сидеть на нем. Отважатся ли в этом? Я с сомнением смотрю на пацанят.
– Ну и детвора пошла, всего боится.
Я, например, осенью, на спор сиганул с высоченного стога и разбил нос. И ничего, не ныл.
Через несколько минут со двора доносится короткий визг и радостный вой Додика.
– Все, кончился ваш васька, – бросаю я ребятне. Те шмыгают носами и испуганно таращат глязенки.
Затем мы с женщинами одеваемся и выходим из хаты.
Громадный кабан, с поникшими лопухами ушей, лежит на брюхе, утопая в соломе. А рядом невозмутимо покуривают дядя и отец, с длинным тесаком в руках.
Дедушка наклоняется, чиркает спичкой и поджигает солому.
– Непоганый кабанчик случился, – обращается он к родне.
– Как же, хлебный, пудов на десять потянет, – смеется дядя.
Я с восхищением смотрю на деда. У него всегда лучшие кабаны не только в селе, но и во всей округе.
Местные дядьки часто приглашают дедушку на ярмарку – выбрать им поросят. И тот никогда не ошибается, из них вырастают здоровенные свиньи. К тому же дед в прошлом цирковой борец и известный лошадник. Рассказывают, по молодости ломал подковы.
Между тем, солома с треском разгорается, и двор наполняется душистым дымом. Он щиплет глаза, от кабана пышет жаром, и все отходят подальше.
Только дед с сынами остаются на месте, ворочая тушу и опаливая щетину на ней свернутыми из соломы жгутами. Когда та исчезает, они укладывают под ваську новый слой соломы и отходят в сторону.
Наступает очередь женщин. Появляются чугуны и ведра с кипятком.
Острыми ножами они тщательно скребут тушу, обильно поливая ее водой. Закопченный васька на глазах преображается, исходит паром и становится молочно-белым.
После этого он накрывается толстым рядном, и в дело вступает детвора.
Я самостоятельно забираюсь на тушу у головы, а братишку и сестренок усаживают сзади, друг за другом. И минут пять, визжа от восторга, мы скачем на широкой кабаньей спине. Это тоже старая украинская традиция. Чтоб сало было мягче и нежней.
Затем дедушка отсекает у васьки одно из зарумянившихся ушей, режет его на кусочки, и раздает их нам. Они необычайно вкусны и душисты.
Теперь наступает самый ответственный момент – разделка туши и засолка сала.
Дед с сынами выносят из сеней кадки и остаются во дворе, а остальные, весело переговариваясь, уходят в дом.
Спустя некоторое время, на громадной чугунной сковороде в печи, брызжет соком и исходит ароматным паром «свежина», а в горнице накрывается предпраздничный завтрак.
На расшитой цветами барвинка полотняной скатерти, в центре, один из испеченных к рождеству пышных караваев, румяный и с ноздреватой корочкой, вилок моченой, снежно-белой капусты и издающие укропный запах пупырчатые огурцы, сметана и мед в веселых макитрах, а также чуть теплый узвар из сушеных груш и чернослива. А еще старинный штоф с домашней горилкой на чабреце и пузатый графинчик с вишневой наливкой.
Через час все, кроме бабушки, за столом. Раскрасневшиеся на морозе и у печи, с веселыми улыбками и добрыми глазами.
Затем появляется и она, торжественно неся перед собой объемистое блюдо с золотисто поджаренной свежиной. Оно водружается рядом с караваем.
Дедушка откашливается и берет со стола утопающий в его заскорузлой ладони стопку.
– Ну, что ж, дети, с наступающим вас светлым Рождеством…
И опрокидывает ее под усы. Его примеру следуют все взрослые.
– Эх, словно Боженька голыми ножками по жилам пробежал, – басит, выцедив горилку дядя, и все за столом смеются. Затем, на несколько минут, в доме воцаряется тишина, все степенно едят.
Мне очень нравится душистое мясо, которое по очереди накладывают себе взрослые и я стараюсь выбрать кусок побольше. Тут же получаю от деда деревянной ложкой по лбу.
– Не мельтеши, чертеня…
За столом дружный смех. Я почесываю лоб собираюсь обидеться и… тоже смеюсь.
– Эх, а пироги я так и не успела вчера испечь, с хлебом долго провозилась, – вздыхает бабушка, – в самый раз были б унучкам до узвару. Та хай соби, як увечери колядовать придете, будуть готовы. Вы ж не забудете бабу с дедом ?
– Не-е, бабуся, не забудем, – дружно тянем мы.
Через час завтрак окончен. Мужчины вновь уходят во двор, заканчивать с кабаном, а женщины быстро убирают со стола, готовясь начинять мясом колбасы и непременный в Малороссии свиной желудок, именуемый в этих местах «бог».
Нас, сонно клюющих носом от утренних впечатлений и сытной пищи, мама ведет домой.
А зимний день в разгаре. Ярко светит солнце, искрится голубым льдом замерзший Донец с заснеженными вербами на берегу, над селом плывет запашистый дымок из дворов и дымарей хат. Откуда-то с околицы доносится удалая песня
«Йихав козак за Дунай,
Казав дивчини прощай,
Повернуся я до дому,
Чэрэз тры добы…»
Дома мама заставляет нас умыться и укладывают на теплую лежанку – вздремнуть. Мы с сестренкой капризничаем – боимся проспать колядки, которых ждали целый год.
– Ничего, – успокаивает мама,– мы с отцом вернемся от дедушки и вас разбудим. Поколядуете. Целует нас и уходит…
Вечер. За разрисованным морозом окном первые звезды.