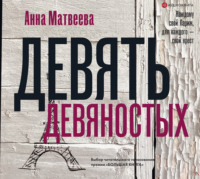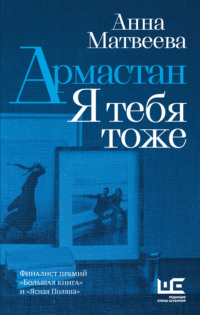Полная версия
Есть!
Вот почему рецепты ба Ксени – будучи старше – я уже старалась записывать. И самым первым стал бабушкин рецепт блинов – тоненьких и очень больших, таких я больше ни у кого никогда не видела. Эти блины – мой главный козырь в мучных состязаниях, которые у нас регулярно устраивают на Масленицу. Вообще, соревнования, объединённые темой «А вот кто у нас здесь вкуснее всех готовит?», простегали нашу жизнь слева направо и с ног до головы – красной нитью. Первое условие для всех, кто пожелает вдруг устроиться к нам на работу, – это уметь готовить, и готовить вкусно! У нас даже компьютерщики способны накормить десять человек одной рыбой, а какие пончики жарит главный бухгалтер!.. Единственный человек, не прикасающийся к продуктам и навеки застолбивший себе место «по ту сторону тарелки», – наш главный едок и директор П.Н…
…Ба Ксеня всегда говорила мне: «Женечка, готовить нужно с любовью». Она единолично властвовала на кухне, и всегда очень нежно прикасалась к продуктам. Эта ненаигранная нежность встречается лишь у самых лучших поваров. Ба Ксеня так ласково бралась за какую-нибудь тривиальную картошку, что картошка не имела морального права ответить ей иначе.
А мои первые кулинарные опыты – это килограммы варварски загубленных продуктов, чёрные дыры сгоревших сковородок и слава неумелой поварихи, которая носилась за мной, как бык с репейником в заднице за ковбоем на родео. Опытные хозяйки от души веселились над моими юношескими экспериментами, но вот мой день настал, уж пробил час, и где теперь все эти хозяйки? Да вот они, родимые, сидят у экранов и, сочась тоской (пополам с самой жгучей, что твоя аджика, завистью), записывают на полях газеты рецепты «Гениальной Кухни».
– Геня, ты домой-то собираешься? – уборщица Светлана Аркадьевна (второе место в прошлогоднем состязании пельменщиков) вплыла бесшумно, как тень какого-нибудь отца Гамлета. Обняла швабру, будто берёзу, и вперилась в звезду эфира умильным взором. Светлана Аркадьевна – как и другие мои поклонники – даже не догадывалась о том, что звезде эфира сегодня некому светить. Она, звезда эфира, уныло доползёт до пустого дома, отправит в духовку кусок судака с козьим сыром и сухарями, а потом равнодушно проглотит ужин в одиночестве, не заметив ни вкуса еды, ни цвета, ни запаха.
Глава третья,
из которой читатель сможет узнать множество подробностей о славном прошлом Гени Гималаевой и убедиться в том, что она абсолютно верно поступила, порвав с этим славным прошлым. Также читателю открываются некоторые личные странности ведущей «Гениальной Кухни», а кроме того, здесь впервые – и пока совсем ненадолго – появляются Иран, Ирак и популярный британский повар
Жизнь склеена из множества кадров. Почти каждое свое движение я отслеживаю, как подобает профессионалу: с подсветкой и озвучкой. Столько лет на телевидении… спасибо, врач не нужен!
Кадр первый. Геня Гималаева. Короткое пальто и берет придают облику героини лёгкий французский акцент. Геня – не то чтобы молодая, но уж точно, что не старая – закрепилась ровно посредине между эпитетами «худая» и «фигуристая». Несомненная брюнетка. Идеальные брови. Та самая Геня Гималаева, которую вы можете лицезреть в ежедневном режиме на кулинарном телеканале «Есть!», открывает входную дверь и вздыхает, набрав полную грудь родного воздуха. Горечь свежесмолотого кофе и сладкий ладан книжной пыли. Как же она любит свой дом!
Кадр второй. Кстати, о кадрах.
Гене пришлось помучиться с оператором, прежде чем он выучился правилам бережного обращения с её лицом. Оператор ещё важнее косметолога, это потенциальный киллер, способный нейтрализовать любые попытки выглядеть моложе и лучше (кажется, была?..) единственным метким движением камеры. (Контрольный выстрел в Генином случае – съёмка лица снизу.)
Мой Славочка, к счастью, лишён лицензии на убийство – я никогда не поменяю оператора.
И ещё о кадрах.
Ира Калугина и Ира Николаева, Ира К. и Ира Н., которых с моей нелёгкой руки у нас все зовут просто Ирак и Иран. Две мои главные жизненные подпорки, редакторы, подруги, непромокаемые жилетки и надёжные плечи. Без них не взойдёт солнце, и не будет нового дня. На самом деле я и без Ирак с Иран спокойно обошлась бы, но тогда мне пришлось бы выполнять кучу неприятных скучных дел: искать героев программы, записываться на коррекцию ногтей, собирать отзывы о новых проектах…
Ирак родом из Дагестана. (Калугина она по мужу – теперь уже бывшему.) Она легко пускает слезу и с такой же лёгкостью её высушивает, принимаясь за повседневный телевизионный труд. Ирак будит меня по утрам телефонным звонком и, полусонной, рассказывает о том, что ждёт нас в сегодняшнем дне, а кофе, который она варит, заслужил похвалу самого П.Н. Этот кофе – моё ежедневное топливо. Самое нелюбимое время в году для Ирак – это отпуск, в который я её буквально выпинываю – ведь кадры надо беречь. Увы, Ирак одинока: за исключением работы, ей не удалось обзавестись в жизни ни одной стойкой привязанностью.
Ира Николаева, Иран – совсем другая страна… Мама Иран – моя давняя и преданная поклонница, сама же Иран пришла к нам всего лишь три года назад – не могу поверить в то, что канал «Есть!» (и отдельно взятая телеведущая) могли когда-то без неё обходиться! Перетруждаться, впрочем, не в её привычках – напротив, Иран умело выпрашивает у меня дополнительные дни отгулов и ловко пристёгивает выходные дни к очередному отпуску. Собой она не хороша, ноги и руки у неё широкие, как ласты, – зато голос! Земляничное мороженое! Все сложные телефонные переговоры у нас ведёт Иран – ей никто не может отказать. Еще Иран вегетарианка, притом затейливая. Против мяса убитых животных она чисто теоретически не имеет ничего против, но утверждает: для того чтобы вырастить одну-единственную корову, человечеству приходится тратить уйму денег на корм и пастбище. А значит, коровы (свиньи, бараны и прочая скотина) – непозволительная роскошь для человечества, и на всех коров не хватит в любом случае. Вот почему Иран добровольно отказалась от своей доли в мировом животном наследии, предпочитая… объедать этих самых коров, употребляя исключительно растительную пищу. По части блюд индийской кухни Иран нет равных – у неё получается такой сочный шахи панир, какого вам и в Агре не сготовят.
Между собой Иран и Ирак не то чтобы дружат, но вполне гармонично сочетаются в рабочем пространстве, образуя идеальный творческий фон. А чего ещё можно требовать от кадров?..
И вот он,кадр второй.
Геня Гималаева вносит в кухню продукты и отработанными движениями распределяет их по шкафчикам, холодильникам и полочкам. Домашняя кухня Гени – шедевр дизайнерской мысли, созданный, кстати сказать, без участия единого дизайнера. Всё по-настоящему важное я стараюсь делать самостоятельно – лишь так можно угодить себе и сохранить хорошие отношения с окружающими. И не врать потом, что тебе на самом деле нравится реализованный проект какого-нибудь Васи с архитектурным дипломом: когда в доме снесли все стены или объединили кухню с гостевым санузлом…
Кадр третий. В кухне появляется кошка Гени Гималаевой по кличке Шарлеманя. Крупный план Шарлемани. Вот кого не сможет изуродовать дурной ракурс – Шарлеманя прекрасна в любое время года и суток: она жемчужно-серой масти, с чёрной буквой «M» на лбу, а хвост у неё распушается так, что павлин от зависти сдохнет. Шарлеманя подходит к пустым пакетам и проводит ревизию, явно одобряя задержавшиеся в кухне запахи судака и сыра. Утончённый вкус моей кошки – тема для отдельной книги, которую я тоже однажды напишу.
По-моему, хотя бы одну книгу в своей жизни обязан написать каждый. Даже самое скромное бытие всегда выигрывает у литературы. Читать невыдуманный очерк живой жизни намного интереснее, чем погружаться в заводь писательской фантазии – как правило, до самого дна отравленную желанием разбогатеть, прославиться и при этом – не изменив себе! – вытащить наружу все свои страхи, страсти и комплексы. Жаль, что обычные люди (не писатели) крайне редко решаются на подобный эксперимент, и, в общем, я их понимаю – зачем писать роман, если и так в нём живёшь?..
Я-то, впрочем, раньше всерьёз писала книги – задолго до того, как обнаружила себя на кухне. Я даже подавала надежды (на подносах и блюдцах с каемками) – критикам, читателям, своим родителям, и эти надежды вместе с книгами стоят теперь на самой высокой полке в гостиной корешками к стенке. Мне совсем не хочется на них смотреть, но по законам жанра камера движется именно в эту сторону. Затемнение.
Кадр четвертый. Зритель переносится в давнее прошлое Гени Гималаевой, которую тогда ещё звали Женей Ермолаевой. На экране светится внутренним счастьем румяное существо в джинсовом жилетике. Это я. Сосед по кадру – Этот Человек. Сейчас я мысленно называю его иначе – Тот Человек, потому что мы не виделись ровно столько времени, сколько требуется для превращения Этого в Того.
Именно Тот Человек первым заметил, что я слишком часто играю – даже если на меня никто не смотрит. Тот Человек не верил, что можно тщательно накрывать стол для одинокого обеда – пока не встретился со мной.
Замечание для режиссёра: можно не описывать нашу первую встречу, зритель сможет сам быстренько придумать что-нибудь подходящее случаю. Достаточно сказать, что после знакомства с Тем Человеком я написала подряд четыре книги – а после нашего расставания навсегда оставила это занятие. Бросила как вредную привычку. И сейчас не понимаю, зачем было тратить такой громадный жизненный кусок на сочинительство. У меня ведь не было ни тщеславия, ни каменного зада, а самое главное – не было большого таланта, и всё написанное мной почти сразу же переставало устраивать даже меня саму. Ну вот как если бы я готовила утку, а она бы вдруг безбожно обгорела. Я что, стала бы совать эту утку гостям? Под покровом ночи я горестно вынесла бы сгоревшую жертву моей бездарности на помойку, стараясь не смотреть, как от неё с негодующим видом разбегаются в стороны голодные собаки… Литературное творчество здесь как две капли походит на кулинарное: если роман не пропёкся или подгорел, получился невкусным и пресным, то надо избавиться от последствий, поставив книжку корешком к стене. У меня таких книжек, увы, целая полка. Ни одна из них мне по-настоящему не нравится, и я не хочу, чтобы кто-нибудь вдруг снова начал звать меня писателем.
(Но книжки свои всё-таки не выкидываю, как сделала бы с горелой уткой.)
Что касается Того Человека, то он считал меня именно писателем – прочее интересовало его значительно меньше. Отлично помню, как вечерами читала Тому Человеку написанные за день страницы. Как переставляла по ковру бокал с красным вином. Как на ковре оставались круглые следы от бокала.
Странно: я забыла практически всех людей из своей прошлой жизни – за исключением Того Человека. Помню его длинные – слишком длинные для немузыканта – пальцы. Помню, как он смотрел на меня – словно бы пытался прочитать, как книгу. Помню, что не разрешала ему перелистнуть первую страницу, а потом вдруг раскрылась так, что книга бы хрустнула пополам… И не успела понять, что произошло, как он уже дочитал всё до конца, хлопнул ладонью по переплёту и поставил меня обратно на полку. А сам, разумеется, отправился за другой книгой – новенькой, в суперобложке. Белая бумага, пружина сюжета… Свежий, незахватанный корешок, а на моём остались следы прекрасных длинных пальцев.
После этого я долго не могла ни писать книг, ни читать их. Честно сказать, мне вначале даже жить расхотелось, но это, к счастью, прошло.Перетопталось, как выражается мой косметолог Вовочка. Но я и сейчас стараюсь не заходить без нужды в книжные магазины – боюсь встретиться нос к носу со своими сочинениями и вспомнить те следы на корешках.
Спасла меня тогда кухня. И Доктор Время, и ещё один доктор – прекрасный Дориан Грей, но вначале была кухня.
С Тем Человеком мы редко ели вместе. Не знаю почему, но он всячески избегал совместных приёмов пищи, и даже когда я пыталась угостить его обедом, отказывался. Он утверждал, что находится на одном лишь духовном вскармливании, но при этом регулярно жаловался на свою жену – малюсенькую, как лилипутка, но с неожиданно резким, тяжёлым голосом (такой мог запросто уложить её на спину, как жука), – что та совсем не умеет готовить. Так сочетались в Том Человеке вечный голод и страх проявить аппетит.
Прекрасный доктор Дориан Грей, к которому я хожу последние восемь лет, и у которого точно припрятан где-то заветный портрет, объяснил мне, что Тот Человек боялся разрушить свой хрустальный образ, и потому никогда не ел со мной, не покидал меня ради туалетных насущных нужд, и не позволял себе недостойных физиологических проявлений (я даже представить себе не могу, чтобы он чавкнул или, к примеру, пукнул), – иначе образ с хрустальным звоном разбился бы. Впрочем, он так и так не устоял. Можно было и пукнуть разок.
…А я довольно часто напоминаю своим зрителям, что ужинать вместе для влюблённых так же важно, как вместе спать.
Кадр… двенадцатый?
Геня Гималаева отправляет судака в духовку и садится к столу, горемычно подперев ладонью подбородок. На Гене фартук с надписью «Genia – regina della cucina», подаренный знакомым поваром-итальянцем, но вспоминает она не этого развесёлого повара, а былых друзей-писателей, которые начали публиковаться одновременно с ней, но сейчас унеслись на крыльях таланта кто в могилу, кто в столичный бомонд, кто в бытовое пьянство.
О, этот дивный мир творцов: писателей, поэтов, драматургов! Как приятно бывает зайти в книжную лавку и увидеть там известную писательницу: вот она, ловко заталкивает толстый том своей соперницы на задние ряды, подальше от бестселлеров! Как трудно бывает признать чужой талант, и – наивысший пилотаж! – признаться, что у тебя самой его нет, и, кажется, никогда не было. Мама, школьная учительница и душевный редактор из города Санкт-Петербурга: все они пали жертвами своих же собственных заблуждений. Но я вас никогда не забуду.
…Писатель может смотреть на свои книги, как на приготовленные блюда, а может – как на рождённых детей. Лучшие из писателей видят вместо книг младенцев. А я – тарелки с пищей. Метафоры терроризируют меня даже сейчас, но одержимость метафорами – недостаточное оправдание творчества. Для настоящей литературы нужно что-то ещё. Что-то главное.
Финальные кадры – Геня Гималаева сгружает тарелку с вилкой в посудомоечную машину, снимает аппенинский фартук и уходит со своей прекрасной кухни в спальню – не менее прекрасную. Там наша героиня пытается читать книгу, которую ей преподнёс П.Н. по случаю очередного рейтингового взлёта программы «Гениальная Кухня». Это книга остроумного британского кулинара, не зацикленного на правильном обращении с продуктами. Рецепты бодрят и вдохновляют. В Гениных грёзах воцаряются сочная красная оленина и мучительно горький шоколад, и эта оленина под шоколадным соусом снится ей до самого утра.
Глава четвёртая,
в которой читателю наконец представится возможность выслушать другую сторону: узнать, почему Катя Парусова решила стать Екой Парусинской, какую роль сыграла в этом одна популярная телеведущая, а также выяснить, как далеко способны зайти девушки, сомневающиеся в том, что жизнь – это сон, который снится всем одновременно
Как там говорится – «не судите»?..
Любой суд пристрастен, да вот хотя бы суд Париса! Нам так никто и не рассказал за минувшие века, что же сделала Венера с вожделенным золотым яблоком, во имя которого полегло столько «мужей прекрасных и сильных»? Как она им распорядилась? Повесила на стену собственного храма? Подарила Амуру? Или хвасталась перед Юноной с Минервой-стервой?
Любой суд пристрастен, но Катя Парусова держала эту пристрастность на самом коротком поводке. Строгий ошейник, кляп в зубы, перо под ребро. Сама так заплыла однажды – ни один суд не устоял бы перед соблазном вкатить по полной.
Катя Парусова – подобно уже знакомой нам телеведущей – тоже любила мыслить кадрами, но не телевизионными, а, скорее, кинематографическими. Вот сейчас, например, действие переносится ровно на десять лет назад. Двадцативосьмилетняя Екатерина Игоревна Парусова, преподаватель латинского языка, доцент кафедры тра-ля-ля, принимает зачёт у первого курса.
Днём раньше (чёрная отбивка) Екатерина Игоревна впервые услышала за спиной «бесшумные шаги старости». Это потом она бабахает громко, как чужие фейерверки, а поначалу подбирается мягкими лапами. Как и в любой жизни, первые строки читались медленно и долго, начальные годы были бесконечными и доверху набитыми событиями, а потом – шу-у-ух, летят страницы. Конец. Кто читал – молодец. Тираж – 1 экземпляр, замечания можете присылать по адресу… здесь всегда неразборчиво.
Мама говорила, что молодость заканчивается в тот день, когда солдаты на улице покажутся не мужчинами, а детьми.
И Катя, девочка «с языками», как говорили о ней знакомые подруг и подруги знакомых, взяла вдруг и превратилась в тётю-преподавателя, вершащую над студентами быстрый суд Париса. Она так часто имеет дело с латынью, что и в жизни порой начинает думать гекзаметром: «Катя, женщина прекрасная и мудрая, в университет утром приходит и пальто своё на кафедре оставляет. Студенты Катю приветствуют, Екатериной Игоревной называют. Катя в аудитории появляется и экзамен у молодых принимает…»
«De causa belli Troiani». «О причине Троянской войны». Катя сидит за расшатанным столиком в давно не ведавшей ремонта аудитории. Студенты готовятся к бою – к Троянской войне. Вот Парис – нежный блондин Сеня Абдулкин, уверенный в своих познаниях и готовый метнуть их в лицо экзаменаторше, как яблоко – в Венеру. Вот Елена – Стася Морская (это фамилия, а не прозвище), дева тонкая, как грифель (Катя смотрит под стол и видит свои крепкие – ненавистные! – лыжные ноги, набеганные за долгие годы тренировок в ДЮСШ). Вот Гекуба – Марина Мартынова. Что он Гекубе, что ему Гекуба? Марина толста, несвежа лицом, но, как водится в таких случаях, умная и старательная студентка. Помнится, сразу же разобралась с третьим склонением.
Первокурсники – что те самые солдаты – кажутся Екатерине Игоревне детьми. Она находит среди этих детей сумрачного Агамемнона, разозлённого Менелая, сурового, сдержанного Гектора – Гектор, кстати, отправился отвечать первым. Прелестный еврейский мальчик Костя Фидельман. Ни одной ошибки. Qualis vir, talis oratio. Катя тоненько расписывается в зачётке. К столу приближается Парис. Елена… Менелай… В группе всё меньше героев, всё больше воздуха, и вот уже последний из греков высаживается из разбухшего конского чрева. Антон Курбатов, прекрасный, как Ахиллес, и глупый, как Мидас. Садится напротив Екатерины Игоревны и начинает колченогое чтение с бездарным переводом. Не успел списать, не выучил, не готов. Латинские слова – в обычное время холодные, тяжёлые, как сталь, – плавятся в Катиной голове, но она не замечает ошибок. Она ловит дыхание Ахиллеса, смотрит на его красиво задуманные брови, хочет провести по его щеке кончиком пальца – и тут же наказывает себя, впиваясь ногтями в тот самый палец-искуситель. Как там советовали? Вырвать глаз, который тебя искушает? Или отрубить руку? Нет, Екатерина Игоревна, руку отрубали ворам – в восточных сказках. А у нас – не восточная сказка, у нас – экзамен, ну хорошо, не экзамен – зачёт! Вы же, Екатерина Игоревна, как воровка – заритесь на плечи, развёрнутые, словно у певца-пловца… Вырвите себе глаз, Екатерина Игоревна!
– Зачёт, – говорит Екатерина Игоревна и с трудом удерживается, чтобы не погладить по головестудента прекрасного и юного. Он чуть-слегка-едва прихрамывает – у каждого Ахиллеса есть собственная причина беречь ноги. Стася Морская радостным взвизгом за дверью его встречает. В нарушение античного сюжета.
Екатерина Игоревна ведомость аккуратно складывает и в деканат её относит. Вместе с заявлением об уходе. Ровно две недели её уговаривали, ещё две – искали замену, и, наконец, уволили. Через месяц Катя (снова – Катя!) уже была в Москве, на литературных курсах.
Почему литература? Потому что старости не поспеть за писателями – им на неё плевать из форточки. Писатель имеет право быть возмутительно старым, а главное, он не обязан ежедневно видеть перед собой молодых красавиц Елен и эффектно прихрамывающих Ахиллов. Так думала Катя Парусова, подписывая свой первый рассказ псевдонимом Ека Парусинская. Впоследствии злые языки утверждали, будто бы имя ей придумали люди, у которых она украла свои лучшие рецепты. Неправда – это имя принесли с собой ветер и жертва Ифигении. И корабли греков отплыли наконец в Трою. И с латынью было кончено навсегда.
Лишь однажды Ека Парусинская видела впоследствии своего Ахилла – годы спустя он снова сидел перед ней в аудитории. На этот раз – телевизионной аудитории «Ека-Шоу»: он был в первом ряду, пальцем указывая беременной жене на ведущую, и скалился в том смысле, что,помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? Ека узнала его только в самом финале – в начале вся аудитория была для неё как большое яркое пятно.
Но до того дня ещё надо было дожить. И – дожать.
«Меня – нет, – думала Катя. – Настоящей меня не было и нет. Я составлена из кусочков, украденных у других людей и скреплённых талантом к подражанию. Вначале я мечтала стать учёным, потом захотела писать книги… С книгами тоже ничего не вышло».
После рецензии литературного санитара – ядовитого, как рыба фугу, – Катя поняла, что в литературе её нет точно так же, как её вообще нигде нет. Можно было и не стремиться попасть в «толстый журнал» с рассказом…
…Катя Парусова плывёт по запруженной людьми Москве, как утлая лодочка. Скукоженный парус. Пробоины в днище. Единственный матрос загулял в кабаке и не вышел в море. Катя тоже не вышла – замуж. Ей трижды гадали, и каждый раз выходило, что Катя рано умрёт. Одесская цыганка обещала в тридцать три года. Уральская бабка подарила тридцать пять. Московская экстрасенша накинула ещё два годика. В любом случае, заводить семью до сорока было бы безответственно. Так решила Катя. Тогда ей было двадцать девять, она шла по безымянной московской улице, а латинские слова летели рядом. Крылатые выражения – обгоняли и махали крыльями.
Катя вспоминала слова из санитарной рецензии на её рассказ, опубликованный в «толстом журнале»: «Вполне возможно, Е.Парусова – хороший человек, но сие, увы, не означает, что она при этом писатель».
Писатель имеет право быть любым человеком. Хороший писатель – не всегда хороший человек, а хороший человек – совершенно не обязательно хороший писатель. Талант может достаться отпетой сволочи и записному цинику, его будут читать и ругать, ругать и… читать, а чистому душой графоману, доброй и светлой бездарности, лишённому способностей добряку поставят на лоб жирный штамп: «Профессионально непригоден». Добрый? Иди служить в детский дом, помогай сирым и убогим, но только не лезь в писатели, ведь легче верблюду пройти сквозь игольное ушко…
Ещё одна цитата из санитарно-гигиенической рецензии: «Рассказ Е.Парусовой – прекрасный пример того, как не надо писать». Arena sine calce.
«Нет, не надо мне больше пытаться, – думает Катя. – Этот санитар леса, то есть литературы, он же известный критик, а что сам не состоялся ни в прозе, ни в жизни, – так это неважно! Мне нельзя писать, от моих рассказов людям никак. Потому что меня – нет. А значит, Карфаген должен быть разрушен».
Была и другая рецензия. Лицо её сочинительницы – белёсой щепки с острыми, как стекольные осколки, глазами – Катя совсем недавно видела в газете, вполне символически брошенной в урну. Вначале Катя собиралась вытащить газету, но потом побрезговала, и прочла лишь ту часть интервью со щепкой, которая была видна. Прочла, склонившись над урной, – оттуда сочинительница хвалилась своими произведениями и цитировала незнакомых Кате людей: они уверенно обещали щепке скорую славу лучшего писателя России.
Катин рассказ будущая слава России распинала в своей рецензии, как хулиган – беззащитного щенка, привязанного к дереву. Такого щенка маленькая Катя пыталась выходить в детстве, но он всё равно умер. Да и рассказ, можно сказать, тоже скончался: не вынес побоев.
«Языка у Парусовой, конечно, не отнимешь, – сетовала щепка в последнем абзаце, – но этого мало для того, чтобы речь могла идти о настоящей прозе». Катя поёжилась – представила, как щепка отнимает у неё язык.
И так – пусть с языком (и дажес языками, как говорили знакомые подруг и подруги знакомых), но уже без всяких героических планов – Ека Парусинская вернулась в родной город, оставив в Москве диплом об успешном окончании литературных курсов. Научить писательскому ремеслу невозможно: этот дар или выдают сразу, или забывают вложить при рождении. Так Еке однажды забыли вложить шоколадку в новогодний мешочек, и она ушла с той ёлки самым несчастным в мире ребёнком.
Вечером своего возвращения Ека включила телевизор и не выключала его две недели подряд – только ночью волшебный ящик отдыхал. Ека просыпалась рано и смотрела всё подряд. Она гадала на телевизоре, как её прабабка в старину – на книгах. Прабабка открывала наугад страницу и читала случайные строки с трепещущим сердцем, а Ека включала разные программы, не глядя на пульт. И примеряла к себе разные профессии вместе со спецодеждой и арго. Представляла, как поёт на сцене, демонстрируя всей стране свои пломбы. Как играет в теннис, оргастически вскрикивая во время подачи. Как беззастенчиво стендапится на фоне Стены Плача. Как оглашает новости, надевая скорбное лицо.