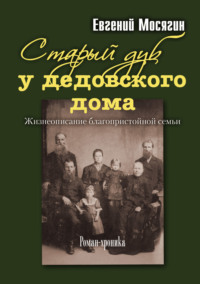Полная версия
Свет и тень, радость и печаль
Юра с Алексеем рассудили так: за всё время оккупации никто ни разу не слышал о том, чтобы немцы запрещали ходить на городской стадион, мало того, стадион второй год пустовал, и ни городская управа, ни немецкая комендатура не проявляли к нему никакого интереса. Даже сторожа на стадионе не было.
– Прогонят – уйдём, – решил Алексей, и Юра с ним согласился.
Бабушке об этой затее Юра ничего не сказал: «Зачем её волновать, поиграем часок и по домам».
Компания подобралась небольшая, всего восемь человек, и потому играли в одни ворота. Алексей, Юра и ещё один мальчишка с Красной улицы были в защите, на ворота встал Коля Маляров, а остальные четверо ребят нападали. Игра сразу пошла хорошо. Как будто ни войны, ни оккупации, ни ночных бомбёжек – ничего не было, всё как-то отошло, забылось. По зелёному футбольному полю, поросшему свежей травой, бегали за мячом мальчишки, охваченные задорным стремлением к успеху и победе, как это всегда бывает в настоящей футбольной схватке. Уже были пропущены голы, уже были принципиальные выяснения отношений защитников с нападающими, были одиннадцатиметровые удары, были хорошие броски вратаря, словом, всё шло хорошо. Так оно могло бы продолжаться, так оно могло бы и закончиться, но случилось, что в это время мимо стадиона проходила группа итальянских солдат. Взлетающий над оградой мяч и игровой шум привлекли внимание итальянцев, и они завернули на стадион. Сначала они просто смотрели, как играли русские мальчишки, а потом мало-помалу один за другим подключились к игре.
Совместный футбол с итальянскими солдатами не получился: обутые в тяжёлые ботинки, крупные мужчины были неравными партнёрами для ребят, и мальчишки постепенно вышли из игры. Больше всех продержался Алексей, но, сбитый с ног и чудом увернувшийся от солдатского ботинка, он тоже оставил игру и присоединился к своим товарищам, скучавшим на травке за футбольными воротами. К ним подошёл один из итальянцев и принялся что-то быстро и горячо объяснять, показывая на часы и на выход со стадиона, из чего, вероятно, следовало понять, что они немного поиграют и уйдут.
Крепкие ботинки солдат взрывали покрытую молоденькой травкой землю, а мяч от сильных ударов мужских ног взлетал в воздух чуть ли не вровень с куполами стоявшего неподалёку Михайловского собора. Но самым неожиданным для Юры было то, что среди игравших в футбол итальянцев он увидел Пьетро. Против всякого ожидания Пьетро оказался довольно бойким футболистом, он ловко отыгрывал мяч, успешно проводил его к штрафной площадке и очень точно бил по воротам.
Судя по азарту и увлеченности игрой, нельзя было надеяться на то, что итальянцы скоро оставят это занятие.
Ребята начали скучать.
– И откуда они только взялись, – сказал Коля Маляров. – Жди их теперь, пока они наиграются.
– Знал бы Хаим, кто будет играть его мячом, – откликнулся Алексей. – В общем, влипли.
Он предложил ребятам расходиться:
– Зачем тут всем торчать? Может, кому домой надо. Мы с Юрой подождём.
Но никто домой и не ушёл, решили ждать, пока итальянцы отдадут мяч. В это время на стадионе появились два немецких офицера. Они так же, как перед этим итальянцы, сначала со стороны наблюдали за игрой, потом один из них, приняв на ногу подкатившийся мяч, повёл его прямо к воротам мимо растерявшихся от неожиданного появления нового партнёра итальянских солдат и почти беспрепятственно с близкого расстояния пробил по воротам. Однако немецкий офицер гол не забил, итальянский вратарь оказался на месте и легко взял мяч. То ли этот факт не забитого гола, то ли желание поразмяться раззадорило немца, и он принял участие в общей игре. Итальянцы отнеслись к этому нормально. Второй офицер присел на деревянный столбик от сломанной скамейки и закурил.
– Теперь пиши пропало, – сокрушенно сказал Коля. – Конца этому не будет.
Это было похоже на правду.
С появлением нового партнёра игра приняла ещё более азартный характер, и никто из играющих на ребят не обращал внимания.
Тогда Алексей предложил такой план:
– Ты вот что, Юра, иди к стрельбищу, а мы, как только мяч залетит за ворота, отобьём его к тебе. Бери мяч и уходи за насыпь. А мы – кто куда.
С одной стороны стадиона, ограждая его от улицы, было расположено стрельбище воинской части, стоявшей до войны в старинных домах на Красной площади. Два высоких земляных вала, соединяясь вместе у городского парка, образовывали замкнутое ущелье. Сюда ушёл Юра. Ожидать ему пришлось недолго, кто-то из ребят пробил на него мяч. В полный рост с мячом под рукой Юра поднялся на верх насыпи. Итальянцы по-разному отреагировали на это: одни кричали, что он молодец и пусть уходит домой, а другие всё более распаляясь, требовали, чтобы он вернулся и отдал им мяч. Ребята кричали:
– Беги! Алексей, почуяв во всей этой суматохе что-то недоброе, крикнул:
– Бросай мячик, Юра! Ну их к чёрту!
Всё это сбило с толку Юру. И он, остановившись на гребне насыпи, с опаской смотрел на резко жестикулирующих и кричащих итальянцев, на своих товарищей и не понимал, что ему следует делать. Тогда Пьетро, намереваясь как-то уладить конфликтную ситуацию, что-то сказал своим приятелям и быстро побежал к Юре. Он хотел взять у него мяч и объяснить ему, что пусть ребята идут по домам и Юра пусть уходит, а он, как только солдаты закончат игру, принесёт мяч бабушке.
Пьетро взбежал вверх по насыпи, и когда он поравнялся с Юрой и был уже рядом с ним, неожиданно для всех раздался пистолетный выстрел. Немецкий офицер, тот, который не принимал участия в игре, достал из кобуры парабеллум и выстрелил. Ему показалось, что какой-то русский парень намеревается украсть футбольный мяч.
Пуля, предназначенная Юре, попала в спину Пьетро как раз против сердца. Пьетро упал под ноги Юре и, несколько раз перевернувшись, скатился по крутой насыпи в сторону стадиона. Итальянцы подбежали к нему, но он был уже мёртв. Немецкие офицеры, переговариваясь, быстро шли к воротам стадиона.
Пьетро похоронили на Панском кладбище. Итальянские солдаты строгим траурным строем проводили своего товарища к месту погребения. Под винтовочный салют комендантского взвода рядовой 8-й итальянской армии навеки остался лежать в русской земле.
В Новозыбкове прошли слухи о том, что на стадионе во время игры в футбол немецкий офицер случайно застрелил итальянского солдата. Подробностей этого происшествия никто не знал, говорили разное. Алексей, Юра и все, кто был с ними на стадионе, договорились никому ничего не рассказывать о том, как погиб Пьетро.
– Мало ли что, – предположил Алексей, – в комендатуре начнут копать, зачем на стадион ходили, кто разрешил, почему мяч хотели унести? Не забирали бы мяч, никто не стрелял бы. Словом так – никому ни слова. А какие пацаны были на стадионе, кому это известно? Пацанов в городе много.
Алексей говорил разумно, но его опасения оказались напрасными. Немецкая комендатура никаких мер к расследованию причин гибели итальянского солдата не предпринимала.
А вскоре, в начале лета, итальянские солдаты покинули Новозыбков. Их посадили в эшелон и увезли в сторону Гомеля.
Ксения Фёдоровна первое время, когда Пьетро перестал появляться в её доме, иногда вспоминала его. Когда он постоянно навещал её, она порой тяготилась его посещениями, а с прекращением его визитов Ксения Фёдоровна временами испытывала такое чувство, как будто ей чего-то не достаёт. Как-то она сказала Юре:
– Что-то Пьетро перестал к нам ходить. Ты его нигде не встречал?
Юра ничего не сказал бабушке. Ни сразу после того страшного случая на стадионе, ни потом, спустя долгое время, он не мог не то, что говорить, а даже думать о гибели Пьетро. Его душу томило сознание собственной причастности к этому, но главное было в том, что на основании своего небольшого жизненного опыта и своих представлений о жизни он никак не находил ни объяснения, ни оправдания тому, что на его глазах погиб ни в чём неповинный человек.
После того, как итальянцы уехали из Новозыбкова, Юра с Алексеем побывали на могиле Пьетро. Они оправили осевший бугорок и обложили его дёрном. И потом они много раз приходили сюда и проделывали эту простую и праведную работу.
В 1947-м году Юру с Алексеем призвали в армию. И только тогда, перед своим отъездом из Новозыбкова, Юра рассказал бабушке, как погиб хорошо знакомый ей итальянский солдат. Ксения Фёдоровна оцепенела от ужаса, когда представила себе, как Юра, открытый и беззащитный, стоял с мячом на земляной насыпи стрельбища, а в него целился из пистолета немецкий офицер и как упал убитый Пьетро.
Она записала в поминание за упокой убиенного воина раба божьего Петра и до самой своей смерти молилась за упокой души его так же, как молилась она за души сына, мужа и своих родителей.
Медсестра Тося
Новелла
Последнее время я все чаще и чаще думаю о том, как мне рассказать о своей давней встрече с молоденькой медсестрой из военного госпиталя, интересной и милой девушкой по имени Тося. Время нашего знакомства было очень коротким, но память о нём не отпускает меня до сего времени. Я был виноват перед Тосей в том, что пропустил мимо своей жизни и её сердечный порыв, и её нежность. И не то, что душа моя дремала – другие причины мешали мне.
А девушка нравилась мне.
Как часто случается с нами, что мы начинаем испытывать запоздалые сожаления по поводу того, что не сумели своевременно оценить добро и дружбу, сердечность и доверие, обращенные к нам и предложенные нам бескорыстным и хорошим человеком. Проходит время, и мы начинаем упрекать себя и даже раскаиваться в своей черствости, но это уже не меняет дела. Все уходит в прошлое, и остается только память и сознание своих ошибок.
…В декабре 1943-го года я вернулся домой в Новозыбков после того, как вышел из немецкого тыла, где в составе партизанского отряда участвовал в боевых действиях против немцев. В комендатуре только что освобождённого от немецкой оккупации города Речицы я сдал оружие и получил указание следовать в распоряжение военкомата по месту жительства в силу того, что я в то время не достиг еще призывного возраста.
Дома я встретил только маму и младшую сестру. Было много слёз и радости. Отец находился в командировке по служебным делам, старшие братья были на войне и от них не было никаких известий. Я встал на воинский учёт в райвоенкомате и начал привыкать к цивильной жизни.
Город выглядел уныло и скучно. Зима еще не полностью вступила в свои права, снегу было мало, и улицы с промёрзшими дорогами и стёжками без травы и снега смотрелись неприглядно. Дома, заборы, калитки и облетевшие деревья – все было одинаково серым и наводило на грустные размышления. Хотя следовало бы сказать, что военные пожары и бомбёжки особых следов не оставили в городе, разрушений от боевых действий при освобождении Новозыбкова также было немного. Грозным свидетельством того, что по городу прошла война, был подбитый танк. В самом начале Замишевской улицы, сразу же за каменным мостом, неподалёку от школы имени Калинина, стояла разбитая тридцатьчетверка; впереди танка, чуть-чуть припорошенная снегом, лежала разорванная гусеница, а боевая башня взрывом была отброшена к берегу озера под высокие старые ветлы. Потом, когда выпал снег, в объезд танка была проложена санная колея.
Я ходил по городу и чувствовал себя совершенно одиноким: моих товарищей и одноклассников – никого в городе не было. Многих угнали в Германию, а остальных забрали в армию после освобождения города.
Мы жили втроем с мамой и сестрой, ожидая возвращения отца из командировки и писем с войны от старших братьев.
Потом произошли необычные события.
Перед самым Новым годом, поздно вечером, вернулся домой отец. Мы сидели за столом, и к радости встречи примешивалась горечь наших воспоминаний. Около полуночи скрипнула калитка, и сразу же раздался нетерпеливый стук в коридорную дверь. Через несколько секунд на пороге стоял невероятно красивый юный офицер в длинной шинели, в ремнях и с погонами лейтенанта на плечах. Левой рукой он придерживал лямку вещмешка, а правой обнимал маму. Это был Федя, мой старший брат, бесценный друг моего детства и отроческих лет. Как же этот высокий стройный молодой человек был не похож на того паренька, которого в августе 1941-го года я далеко за город провожал и никак не мог расстаться с ним, когда он уходил вместе с мужчинами нашего города вслед за отступающей Красной Армией перед сдачей Новозыбкова немцам. Тогда, в июле, на пыльной дороге среди несжатых хлебов я расстался с юношей, только-только вышедшим из отроческих лет, а теперь перед нами стоял молодой офицер Красной Армии.
Далеко за полночь горела керосиновая лампа в нашем доме. Мама по второму разу сходила к тетке Христине за самогоном, а мы все разговаривали и никак не могли наговориться. Моему старшему брату месяц назад исполнилось 20 лет, а между тем он уже около года носил офицерские погоны. Он участвовал в битве за Москву, потом воевал на Северо-Западном фронте, где в бою под Старой Руссой был ранен осколком немецкой мины в голову. Четыре месяца он лечился от этой раны, скитаясь по военным госпиталям. Судьба забросила его в сибирский город Анжеро-Судженск Кемеровской области, где он получил правильное лечение своей раны. Потом были трехмесячные курсы младших лейтенантов – и снова фронт. Дивизия, в которой он служил, освобождала Новозыбков от немцев.
И вот он дома. Проездом, всего на два-три дня, удалось ему договориться об этом коротком отпуске. Он дома и наша семья почти вся в сборе. Нет с нами только самого старшего брата Лёни, которого мы так никогда больше и не увидим.
Мы всё говорили и говорили с Федей. Отец и мать с сестрой ушли спать, а мы сидели в передней комнате и всё рассказывали друг другу о пережитом за минувшее время.
Появление в доме в один и тот же вечер отца и брата после двух с половиной лет разлуки и неизвестности само по себе было необыкновенно, а если учесть, что и я заявился домой совсем незадолго перед этим, то можно считать все эти приезды и возвращения исключительным случаем, словно кем-то специально запланированным, так это всё было удивительно.
Но на этом волнительные неожиданности этих дней не закончились.
В последний день пребывания в Новозыбкове Федя после посещения военкомата и продпункта вернулся домой не один. С ним была девушка. Они остановились у двери. Оба в военной форме, оба одинаково юные, свежие с мороза и такие красивые и милые, что у меня защемило сердце от промелькнувшей мысли о том, что в своей цветущей молодости и с радостным ощущением жизни оба они, по сути, принадлежат не жизни – они всецело принадлежат только войне.
Рослый лейтенант и невысокая девушка в шинели с сержантскими погонами, в сапожках и в солдатской шапке на темных волосах, так хорошо смотрелись вместе, что казалось, эта пара не случайно и не на короткое время обрела друг друга.
– Познакомьтесь, – сказал Федя. – Это моя хорошая знакомая – медсестра Тося.
– Здравствуйте, – чуть-чуть настороженно, но достаточно приветливо отозвалась мама. – Проходите, пожалуйста.
– А это мой брат, – указывая на меня, продолжил Федя. – Сейчас он нездоров, но чтобы к следующему моему приезду ты мне его непременно вылечила.
Я назвал свое имя. Девушка подала мне руку и, глядя мне прямо в лицо, бойко, с улыбкой сказала то, что принято говорить в таких случаях:
– Очень приятно, будем знакомы.
Она немного отставила назад одну ногу и изобразила что-то вроде галантного реверанса. Этот жест был только слегка обозначен, но в его мимолетности содержалась и плавность, и раскованность.
Я смутился. В эти дни я действительно разболелся. Начала беспокоить задетая осколком нога, к тому же сказывались холодные ночи, проведенные в конце ноября в болотистой пойме Березины под носом у немцев.
Мама принялась ставить самовар. Она, конечно, не понимала, какие отношения связывают Федю с молоденькой военной девушкой, но для нее много значило то, что эта девушка – медсестра. Вероятно, мама подумала, что она лечила ее раненого сына и ухаживала за ним в госпитале. В этом случае Федя мог бы привести в дом весь персонал целого санбата и мама постаралась бы всех приветить, всем была бы рада и всех старалась бы чем-то угостить, чтобы выказать им свою благодарность за лечение сына.
Но Тося никогда не ухаживала за раненым Федей.
– Дело было так, – рассказал мне брат. – В начале октября я ехал с эшелоном битой артиллерии в направлении на Москву. Поезд прибыл на станцию Судимир, и там у нас была долгая стоянка. Рядом на путях ждал отправления встречный санитарный поезд с полевым госпиталем, перемещавшимся поближе к фронту. Там я и познакомился с красивенькой медсестричкой Тосей. Мы с ней понравились друг другу, – безапелляционно заявил брат. – Эшелоны наши стояли рядом. Мы ходили по путям, разговаривали и пели военные песни. В общем-то, пела она, а я только так, помогал маленько. Сама она из Горького. Хорошая девчонка, да встреча была короткой. Нашему эшелону открыли путь. Мы с Тосей обменялись полевыми почтами и простились. Правда, пока мы гуляли, она успела написать мне в книгу учета несколько песен. И всё. А сегодня смотрю на базаре – знакомая фигура, Тося! Вот я и привел её домой.
Брат уехал утром на другой день. А я окончательно слёг, поднялась температура. Я лежал в постели, пробовал читать, но болели глаза, и я откладывал книгу. Я вспоминал довоенную жизнь, школу, вспоминал своих друзей и товарищей: Мишу Торбика, Алексея Копылова, Колю Малеева, Ваню Масарова, Никиту Соколова, Павла и Кузьму Дороховых. Все они погибли на войне. Уцелел только один Миша Торбик, он был ранен и получил инвалидность.
Из воинской части, что располагалась в городской больнице, ко мне приходил врач – старший лейтенант, внимательная молодая женщина. Оставила какие-то лекарства, перевязала ногу.
А потом пришла Тося. Я не ждал её, не думал, что она серьёзно отнесётся к наказу брата лечить меня. Мало ли что люди могут сказать в обычном разговоре. Но Тося пришла. Она спросила, нет ли каких известий от Феди, сказала, что и она ничего от него не получала. Мама пригласила её пройти ко мне.
– Ну что, вояка, совсем разболелся? – спросила она, присаживаясь около моей кровати.
Она была в штатской одежде и выглядела моей ровесницей, хотя была на два года старше меня.
– Какой-нибудь врач приходил? – спросила она.
– Был врач, – ответила мама. – Военная женщина. Лекарство оставила и ногу перевязала.
Тося посмотрела порошки, потом обратилась ко мне:
– А что у тебя с ногой?
– Немножко ранило. Осколком.
– Давно?
– Два месяца, пожалуй, прошло.
– Давай я посмотрю, – решительно сказала Тося.
Она разбинтовала ногу и осмотрела её.
– Ну и что сказала военная женщина? – спросила Тося у мамы.
– Сказала, что краснота не очень понятно отчего взялась, а рана чистая. Сказала, что надо подождать.
– И ждать нечего, – Тося завязала ногу желтым от риванола бинтом. – Всё здесь уже ясно. Рана совершенно зарубцевалась, а на ноге обычный фурункул.
– Что это? – взволновалась мама.
– Да просто чирей. Правда, штука болезненная, но не опасная. Тося укрыла меня одеялом, села рядом и тихо, как-то очень хорошо спросила:
– Потерпишь?
– Ну что Вы, конечно, потерплю.
– А как тебя ранило? Где это было?
– Да не стоит об этом. У Вас, наверное, каждый день перевязки, раненые да увечные…
– Слушай, – остановила меня Тося, – что ты мне всё «вы» да «вы»? Это у нас в госпитале замполит, как только заметит какой-нибудь промах, так сразу же на «вы» переходит: «Вы, товарищ сержант, младший командир Красной Армии и должны пример подавать вольнонаёмному составу».
Очень смешно она изобразила госпитального замполита.
– Да вы настоящая артистка!
– Опять «вы»! Скажи «ты»!
Я сказал «ты».
– Скажи ещё раз.
– Ты, Тося, ты, – мне было приятно это произносить.
– Молодец. Теперь мы по-настоящему познакомились.
Я не помню, о чём мы разговаривали в ту первую нашу встречу.
Мне с трудом давалось «ты», я был стеснителен, может, потому, что мне нравилась Тося.
Перед тем как уйти, она положила мне на лоб руку, немножко прохладную и легкую.
– Да у тебя жар, – сказала она и немного наклонилась надо мной. Я близко увидел её глаза, и мне показалось, что выражали они не только участие, но и ещё что-то волнующее и беспокойное. Сам того не ожидая, я попросил:
– Не уходи, Тося.
Она улыбнулась:
– Мне на дежурство пора, а тебе надо поспать. Хочешь, я спою тебе колыбельную?
И она пропела очень тихо и очень проникновенно два-три куплета, никогда – ни ранее, ни потом – неслышанной мной колыбельной песенки. В ней было что-то о мальчике, у которого и мать, и отец оба лётчиками воюют на фронте. В памяти осталось несколько строк:
…Мама твоя лётчиком на фронте,Дома в няньках раненый отец.Спи, мой милый сын,Тикают часы,Мячик закатился под кровать,Через восемь днейС мамою твоейБудет папа вместе воевать.Кажется, Тося не до конца пропела мне эту необычную колыбельную – она действительно торопилась на дежурство.
После этой встречи Тося стала приходить ко мне по два-три раза в неделю. Я ожидал её и всегда был рад её посещениям. Она садилась у моей кровати, и мы много и хорошо разговаривали о школе, о довоенной жизни, о книгах, и я узнал из этих бесед, что она родом из Горького, что до войны она училась в девятом классе, но ушла из школы осенью сорокового года, когда вышел указ о плате за обучение в старших классах средней школы.
– Мы жили вдвоём с мамой, – рассказывала Тося. – Мама не смогла из своей маленькой зарплаты оплатить мою учёбу. Я устроилась работать в швейную артель. В начале войны мы с подругами пошли в военкомат, но в армию нас не взяли из-за того, что нам ещё не было восемнадцати лет. Нас направили на курсы медицинских сестёр и по окончании обучения призвали в армию. Хотела быть зенитчицей, а видишь, как вышло, – закончила свой рассказ Тося. Потом добавила:
– Вообще-то нас, военнообязанных, направляли в строевые части. В госпиталь я попала случайно.
Я спросил, нравится ли ей Горький.
– Других городов, кроме Горького, я не знаю, и мне кажется, что лучше города и быть не может. Правда, моя бабушка никогда не признавала иного названия нашего города, кроме как Нижний Новгород. Честно говоря, и мне старое название нравится больше. А вот что интересно. Когда я была на экскурсии в музее Максима Горького, в старом доме дедушки Каширина, то больше всего меня удивило, что и двор, и красильня, и сам дом – всё мне показалось очень тесным и зажатым. Экскурсовод рассказывал о пожаре, и я думала, как же дом не загорелся, если совсем рядом горела красильня! И потом, где же там бабушка Алёши ловила испуганного коня? Там, во дворе, и убегать коню некуда, и ловить его негде…
– А ты Максима Горького любишь? – спросила вдруг Тося.
Я сказал, что не очень.
Тося чаще приходила под вечер, и получалось так, что, когда начинало смеркаться и мама зажигала лампу в соседней комнате, мы оставались вдвоём с Тосей в полусвете, и тогда разговор наш становился особенно доверительным, и каждое сказанное нами слово приобретало бо́льшее значение, чем его истинный смысл. Между нами возникало необъяснимое чувство бережности и чуткого внимания друг к другу. Как-то я взял её за руку, она не отняла её, а только посмотрела на меня, и её большие остановившиеся на мне глаза стали ещё больше и выразительней. Однажды я попросил её спеть из новых песен, которые поют теперь в армии и вообще.
Тося не сразу отреагировала на мои слова, и я сказал:
– Мне брат рассказывал, как вы пели в Судимире на станции.
Она качнула головой, чуть усмехнулась, помедлила, потом вместе со стулом подвинулась ко мне и негромко, как будто только для одного меня, запела:
Мы вдвоём в поздний час,Входит в комнату молчание,Сколько лет всё для насДлится первое свидание.Тихий голос её и проникновенные слова так тронули мою душу, что у меня жесткий ком подступил к горлу. Я точно почувствовал, что Тося тоже была взволнована, словно ей давно было необходимо сказать или пропеть какому-то единственному человеку слова этой пронзительно трогательной песни. Когда она закончила петь, мы оба долго молчали, а когда я хотел, было, заговорить, она остановила меня:
– Нет, больше я петь сегодня не буду. Ладно?
– Ты не поняла, я хотел сказать «спасибо».
– А что? Ты раньше не слышал этой песни?
– Нет, конечно.
В этот вечер мы расстались так, словно не ушли друг от друга. По крайней мере, такое чувство было у меня. Тося ушла в свой госпиталь, а мне казалось, что она со мной.
От простуды я довольно быстро избавился, вроде бы обошлось без воспаления лёгких. А вот фурункулёз меня замучил. И то ведь сказать, в течение почти полугода я не снимал сапоги иной раз по две-три недели кряду. Небольшая осколочная царапина чуть повыше голеностопного сустава левой ноги в своё время вынудила меня дней десять попрыгать на одной обутой ноге. Но это быстро прошло, и как только я смог надеть сапог на поврежденную ногу, так уже до самого возвращения домой почти не разувался. Всё это время я прожил под открытым небом, где уж там было разуваться, если учесть ещё и то, что и обстановка в те дни была довольно сложной.