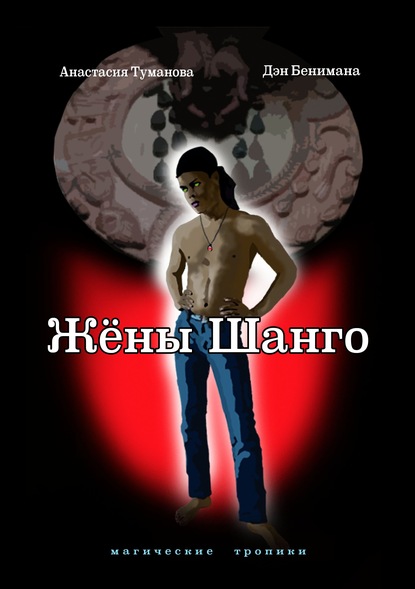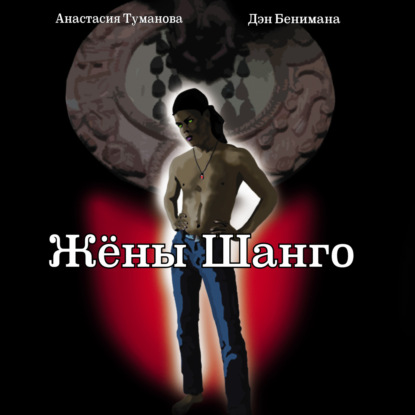Полная версия
Дети Йеманжи
«Ну, что у вас получилось, дети мои? – лукаво спросила она, допив кофе. – Дайте-ка я взгляну – стоило ли на вас тратить силы?»
Ошун пошла по рядам, сопровождаемая смеющейся свитой из парней, разглядывая каждую работу и непринуждённо делясь впечатлениями. С первых же её слов Эва поняла, что девушка эта – не из богатой и даже не из образованной семьи. Совершенно не их круга была эта манера слишком громко говорить, неправильно строить фразы, весело смеяться и широко улыбаться в лицо собеседнику. И жёлтое платье Ошун было дешёвым, поношенным, с оборванной бахромой на подоле. И серебряные браслеты с блестящей заколкой стоили сущие гроши. И кожа пахла морской солью и потом, а не французскими духами… Вряд ли Ошун когда-нибудь была в театре или читала книги. Вероятно, и в школе училась совсем недолго. И жила, скорее всего, в Нижнем городе, рядом с портом… Прежде Эве доводилось общаться с такими людьми только на ферме у бабушки. И сейчас она подумала, что именно у бабушки – а не здесь, в элитной художественной студии, среди лощёных молодых людей, – Ошун выглядела бы естественнее.
Девушки, которых в студии, кроме Эвы, было три, восторгов парней не разделяли. Витория брезгливо придержала подол платья, когда Ошун нечаянно задела его юбкой. Некрасивая, чёрная, как ворона, Мария пристально смотрела в окно всё время, которое Ошун стояла рядом с её работой, и нарочито отмахивалась от сигаретного дыма. Аута-Роза улыбалась надменно и почти презрительно, разглядывая свои розовые, отполированные ногти. «Надутые дуры,» – подумала Эва, улыбаясь Ошун. К её изумлению, та блеснула в ответ белыми зубами:
– Ой, дорогая моя, ты права!
«Неужели я вслух это сказала?!» – перепугалась Эва, панически оглядываясь на подруг. Но те, судя по всему, не услышали вырвавшейся у неё фразы. А Ошун расхохоталась на всю студию, запрокинув голову и тряся волосами, из которых пулей вылетела под ноги Витории заколка. Витория нервно убрала ногу, и заколку подхватил Гильермо Сантос:
– Прошу вас, сеньорита!
– Просто Ошун, мой милый, просто Ошун… О-о, а вот это – лучше всех! Я не больно, конечно, разбираюсь, но здесь я просто красотка! – зажжённым концом сигареты она указала на работу Эвы. – Шикарно, правда же, а?
– С-спасибо, мне приятно… – пробормотала Эва, которая точно знала, что она – вовсе не самая лучшая в студии. Признанный талант – Гильермо – явно чувствовал себя уязвлённым. Сам он дождался лишь небрежного «миленько!» – когда Ошун проходила мимо.
Вскоре вернулся местре Освалду, удивился тому, что в студии всё ещё полно народу, и живо выгнал всех под дождь. Ошун, хихикая, выбежала вместе со студентами, со смехом отвергла одно за другим предложения сходить в ресторан, в кино, на шоу капоэйры и на выставку Матисса – и весело предложила Эве:
– Погода паршивая, идём в кафе? Я сегодня заработала, угощаю!
Растерянные парни умолкли, переглядываясь. Затем Гильермо, неприятно ухмыльнувшись, процедил:
– Похоже, у сеньориты нетрадиционные предпочтения? Эвинья, я бы на твоём месте поостерёгся…
Эва не успела ни возмутиться, ни вступиться за новую знакомую. Вихрь из жёлтого платья и вьющихся волос пронёсся мимо неё. Ошун оказалась прямо перед Гильермо – и стремительным движением схватив его за мотню. Тот заорал от неожиданности, другие парни отшатнулись. А Ошун, улыбнувшись, приблизила своё лицо к растерянной физиономии Гильермо и очень ласково сказала:
– Я не лесбиянка, чибунго[16]! Ещё раз скажешь такое – яйца понесёшь домой в разных карманах! Впрочем, – она презрительно усмехнулась, – Поместятся и в одном! Вот в этом! – Коричневый пальчик с накрашенным ноготком ткнул в крошечный декоративный карман на рубашке парня. Послышались смешки. Гильермо вырвался с пылающим лицом. Не помня себя замахнулся. Ошун с готовностью сбросила босоножку с острым каблуком и взяла её на отлёт… но тут все пришли в себя, загомонили, двое парней увлекли в сторону Гильермо, остальные скомканно извинились и поспешили уйти, оглядываясь через плечо.
– Ты это напрасно, – заметила Эва, вновь обретя способность говорить. – Сантос может нажаловаться в дирекцию, останешься без работы.
– Ну, так найду другую! – беззаботно отозвалась Ошун, держась за плечо Эвы и натягивая босоножку на мокрую от дождевой воды ступню. – У меня ещё не кончился контракт с модельным агентством: с голоду не умру! Не давать же себя оскорблять! Идём есть мороженое, дорогая! Или возьмём вина, выпьем за встречу? Или кашасы[17]?
От вина и тем более кашасы Эва отказалась и, оказавшись в маленьком кафе на площади, попыталась сама заплатить за своё мороженое – чем повергла Ошун в страшное негодование:
– Дорогая, если я сказала, что угощаю, – значит, так оно и есть! Кстати, ананасовое в этом месте – дерьмо, возьми лучше манго-шоколад! Ману, милый, принеси! – обратилась она к чёрному пареньку-официанту с той же ласковой интонацией, с какой полчаса назад говорила с богатыми студентами. Мальчишка сверкнул улыбкой, убежал. А Ошун поставила на стол локти, положила на сцепленные кисти подбородок и широко улыбнулась:
– Ты в самом деле талантливее их всех! Я так и знала!
– Откуда?! – поразилась Эва, которая могла бы поклясться, что видит эту чёрную храбрую красавицу впервые в жизни. Но Ошун лишь улыбнулась ещё шире:
– Сколько тебе лет, милая? Восемнадцать? О-о, так ты уже настоящий художник! Зарабатываешь этим?
– Нет, – с сожалением созналась Эва, – Мать мне никогда не позволит…
– Дорогая, у меня для тебя сюрприз! – таинственно понизив голос, проворковала Ошун. – Ты взро-о-ослая! Ты свободна делать что хочешь!
Эва только грустно улыбнулась.
– У тебя есть братья или сёстры? – вдруг спросила Ошун.
– Нет. Никого нет, – пробормотала Эва, чувствуя, что к горлу подступает комок. Ошун сочувственно покачала головой. Глядя в упор блестящими глазами, спросила:
– Ты уверена?
Эва изумлённо подняла глаза. Конечно, она была уверена. Братьев и сестёр у неё не было. Не было даже подруг. Дона Каррейра легко, жёстко и уверенно пресекала все дружеские связи дочери. В детстве Эва, как и все, приглашала к себе школьных приятельниц, и мать не запрещала этого делать. Но после, когда подруга уходила домой, будничным голосом замечала:
«По-моему, Эвинья, Кармела тебе завидует. Ты видела, как она разглядывала твой компьютер? У неё самой такого никогда не будет! Как бы она не начала говорить о тебе гадости за спиной!»
«Эвинья, я ничего плохого не хочу сказать о Марии, но она невыносимо вульгарна! Что это за красное платье с синими кроссовками? Почему она хохочет так, что потолок трещит? Над тобой посмеются, если ты будешь появляться рядом с ней!»
«Эта Нина – милая девочка, но, к несчастью, совершенно глупа. Напрасно ты заговорила с ней о Пикассо: ей было попросту скучно! Думаю, она ни одной книги в своей жизни не прочла! Разве ты не можешь общаться с кем-нибудь поинтереснее?»
После таких слов было немыслимо приглашать подруг снова. Девочки обижались, отдалялись, находили себе новых знакомых. Эва расстраивалась, но поделать ничего не могла. Она страшно, до тошноты и головокружения, боялась своей матери.
Эве было двенадцать, когда она понакомилась с Габриэлой Эмедиату: та приехала из Ресифи и поступила в ту же школу, где училась Эва. Габриэла была весёлой, смелой и красивой, а самое главное – любила рисовать. В первый же день она, восхищённо ахая, пересмотрела все рисунки Эвы, какие только нашлись у той в рюкзаке, а на следующий день притащила в школу пачку своих. Габриэле чудесно удавались цветы, птицы и деревья. Огромные бабочки. Разноцветные ящерицы. Эва пришла в восторг. Несколько месяцев девочки были неразлучны. Сидели рядом на школьных уроках, гуляли по городу, ели мороженое и фрукты, заходили на пляжи. Говорили о книгах, о художниках, о мальчишках, о капоэйре, которую Габриэла обожала, о стихах и музыке, о невыносимой Мариалве да Контас, которая воображает о себе невесть что лишь потому, что её отец работает в мэрии, – и были счастливы. Эва побывала в гостях у Габриэлы – и вышла оттуда счастливая и с гудящей головой: у подруги оказалось три брата и две сестры, которые не замолкали ни на минуту и постоянно требовали к себе внимания! В огромном доме царил страшный бардак и бегала из комнаты в комнату куча народу. Пахло печеньем, кофе, красками и растворителями, повсюду валялись скомканные вещи. В одной комнате под беримбау[18] занимались капоэйрой. В другой – рисовали мелками, лёжа на полу. В третьей – до хрипоты спорили об эстетике Ди Кавальканти. В четвёртой – пили кофе. На кухне трое детей делали уроки, а на плите в огромной мятой кастрюле варилась фейжоада[19] на всех. Дона Фернанда, мать Габриэлы, высокая и худая мулатка, долго и с интересом рассматривала рисунки Эвы и, качая головой, серьёзно говорила о том, что из Эвы получится настоящий художник.
Никогда Эва не видела такого в чистом, пустом, зеркально убранном доме родителей. Никогда ей не было так интересно и весело. Вернувшись домой, она рассказала матери о новой подруге и попросила разрешения пригласить Габриэлу к себе.
Габриэла пришла. Мать казалась на удивление любезной, угостила девочек какао с пирожными, долго задавала Габриэле вопросы об её семье. Эва, впрочем, успела заметить пренебрежительную гримасу на лице матери, когда Габриэла сказала, что её родители – художники. Вечером, когда подруга ушла, Эва приготовилась к схватке с матерью. На этот раз она намеревалась стоять до конца и сохранить отношения с Габриэлой. Видимо, мать это почувствовала – и ни одного дурного слова не сказала о новой подруге дочери. Но наутро дона Нана заявила, что у неё пропал золотой браслет, – и потребовала телефон родителей Габриэлы.
Эва, сидя в своей комнате, напряжённо ожидала конца разговора. В горле словно застрял острый камень. Она была совершенно уверена в том, что всё это – оскорбительное недоразумение, что браслет просто затерялся где-то… как будто у матери хоть раз что-то терялось! Эве было ужасно неловко перед подругой и её родителями. Но она почувствовала, что летит в пропасть, когда мать вошла в её комнату и победоносно объявила, что золотой браслет нашёлся у Габриэлы в сумке!
Браслет принесла дона Фернанда – со слезами на глазах и сбивчивыми извинениями, которые дона Каррейра приняла с ледяным лицом. В школу на следующий день Габриэла не пришла. Эва целый день звонила подруге, но телефон не отвечал. Вскоре Эва узнала, что семья Эмедиату уехала из Баии.
После этого случая мать раз и навсегда запретила дочери приводить домой подруг:
«Ты не умеешь разбираться в людях и тащишь в дом воровок! С меня достаточно! Я не для того зарабатываю деньги, чтобы их крали твои нищие подружки! Больше здесь никто из них не появится! Ты меня слышишь, Эвинья?»
Эва покорно кивнула, чувствуя, как к горлу подступают знакомые позывы тошноты. Именно в тот день она ясно осознала, что мать – опасна. И когда два года спустя Жозе Тейшейра из одиннадцатого класса, отчаянно краснея, пригласил её в кино, Эва спокойно сказала, что этим вечером она занята. И завтра тоже. И послезавтра. Она очень сожалеет, но у неё вообще не бывает свободных вечеров.
После Эва в одиночестве бродила по пляжу, глотая слёзы и напоминая себе, что ничего страшного не случилось. Что она даже ни капли не влюблена в Жозе. И что пусть лучше он пойдёт в кино с другой девочкой, чем найдёт у себя в сумке кольцо доны Нана или часы дона Каррейра. С тех пор у Эвы не было ни одной близкой подруги, и она не согласилась на свидание ни с одним молодым человеком.
По Габриэле она тосковала до сих пор. Вспоминала их долгие прогулки по городу, рисунки в альбоме, мороженое на пляже, звонкий смех подруги, её широкую, открытую улыбку, шумных братьев и сестёр, большой и бестолковый, полный разговоров и веселья дом… И понимала, что теперь она осталась одна навсегда.
Впрочем, Эве казалось, что так было не всегда. Ей смутно помнились какие-то картинки из раннего детства, иногда снились странные сны… Вспоминалась толстая чёрная девочка-подросток, которая играла с Эвой, совсем крошечной, в куклы и пекла для неё печенье. Вкус этого печенья, а также огромные, полные печали глаза юной негритянки Эва не могла забыть. Одна из кукол (Эва отлично помнила, как чёрная девушка мастерила её из лоскутков) долго сидела на краю её кровати – растрёпанная, кое-как сшитая, в белом пышном наряде баиянки, в красном тюрбане… Куклу звали Амаранта, и Эва точно знала, что не она сама придумала это имя. Однажды, возвращаясь из школы, она увидела свою Амаранту в уличном мусорном баке. Понимая, что это дело рук матери (прислуга никогда не осмелилась бы на такое), Эва выудила куклу из мусорных завалов, и с тех пор Амаранта перешла на нелегальное положение в Эвином школьном рюкзаке.
Также крепко зацепился в памяти худой и высокий парнишка, мулат цвета кофе с молоком, – такой же, как и сама Эва. Они вместе рисовали фломастерами, лёжа на животах в её комнате, смеялись и пили лимонад… Но когда Эва пыталась расспрашивать об этих детях мать, та лишь отмахивалась:
«Что за чушь, Эвинья? Тебе приснилось! Может, горничная какая-нибудь… Или приходили гости… Я не помню, ей-богу! Выброси из головы! Ты скоро попросту свихнёшься из-за своих фантазий! Где, боже мой, была моя голова, когда я позволила тебе рисовать?!»
Между бровями матери появлялась жёсткая морщина, и Эва умолкала. Она знала: стоит ей возразить хоть словом – и мать с жёсткой и холодной улыбкой выбросит все её рисунки. Такое уже было однажды, и Эва до сих пор помнила свои безутешные рыдания в тот день. Повод был ничтожным: восьмилетняя Эва спросила, нельзя ли ей навсегда уехать жить к бабушке на ферму. И тогда она в первый раз услышала слова «неблагодарная тварь» и почувствовала обжигающие пощёчины. Мать была страшна с её ледяным лицом и спокойным голосом, которым она обвиняла маленькую дочь в бессердечности и подлости, в предательстве родителей. Затем последовал запрет на прогулки в течение месяца, были отобраны игрушки и, что ещё хуже, – краски с карандашами. Все найденные рисунки были безжалостно изорваны матерью и отправлены в мусорное ведро. Перепуганная Эва не могла даже протестовать – лишь горько плакала и не понимала: чего такого ужасного она попросила? Ведь нигде ей не было так хорошо, как на ферме бабушки – доны Энграсии де Айока.
Строго говоря, фермой это и нельзя было назвать: просто белый облупившийся дом в тридцати километрах от города. Дом, до которого можно было добраться по шоссе в сторону Санту-Амару в облезлом жёлто-зелёном автобусе. Дом с плоской черепичной крышей и небольшим садом из питангейр, гуяв и авокадо. За садом пристроился крошечный огород с овощами. Под окнами кустились огромные белые гардении: они остро, свежо и сильно пахли по ночам. Во дворе, закрывая крошечный патио своей кроной, росло старое манговое дерево. Маленькой Эва ловко, как обезьянка, взбиралась на него и обрывала зеленовато-красные душистые плоды. В доме было просторно и прохладно, пахло корицей, вербеной. К рассохшимся деревянным воротам вела дорога, заросшая травой. По соседству жил лишь один человек: старый сеу[20] Осаин, который сажал табак и продавал его в лавку в Баие. Его тенистый дом был завешан сверху донизу пучками сухих трав и соцветий, и Эва знала: сеу Осаин может вылечить этими травами кого угодно.
«Бабушка, сеу Осаин – врач?»
«Он – сын святого, девочка моя…» – смеялась бабушка. Она сидела на плетёном из тростника коврике под манговым деревом – на своём обычном рабочем месте. Большие и морщинистые руки её были по локоть в глине, на предплечьях уже подсохшей и осыпающейся золотистыми чешуйками, а на ладонях – липкой и рыжей. Дона Энграсия мяла, вертела и вытягивала глиняный ком, приговаривая: «Ну, кто же придёт к нам сегодня?..» – а маленькая Эва смотрела затаив дыхание, на то, как из бесформенного кома появляются голова, плечи, торс, повязка…
– К нам пришёл Огун! – возвещала Эва, вскочив и подняв руки в ритуальном жесте. Дона Энграсия, смеясь, разглядывала своё творение:
– И правда… кажется, он! Что за неделя такая – восьмой Огун! Да эту армию не примут в магазин! Каждый гринго[21] уплывёт из Баии с моим Воителем! Эвинья, любовь моя, может быть, это не Огун? Может, Шанго?
– Шанго никогда не придёт туда, где пляшет Огун! – важно заявляла Эва, и бабушка опять заливалась смехом:
– Аминь… Значит, Шанго придёт к нам завтра!
Именно в доме бабушки Эва впервые взяла в руки ком липкой глины и слепила первую свою статуэтку: пучеглазую жабу-каруру, точную копию той, которая подходила по вечерам к самому крыльцу и пела тонким, жалобным голосом. Бабушка похвалила каруру и попросила сделать ещё что-нибудь. Когда десятка полтора жаб, птиц, броненосцев и тейю[22] выстроились на столе, бабушка обожгла их в большой печи, покрыла блестящей глазурью и вечером позвала соседа:
– Что скажешь, друг мой?
– Скажу, что наследственность – великая вещь! – возгласил сеу Осаин, важно тараща глаза. Эва ничего не поняла. И испугалась, когда бабушка вдруг заплакала: две крохотные слезинки выбежали на чёрные, как переспелые сливы, щёки.
– Бабушка, что случилось, почему ты плачешь?!.
– Не пугайся, девочка моя, я просто старая дура… Ты умница, и мы отправим твоих красавцев в магазин!
– Но…
– …и если эти грингос их не купят – тем хуже для них!
Раз в месяц сеу Осаин загружал в свой задыхающийся грузовичок вместе с коробками сигар фанерный ящик с изделиями доны Энграсии и вёз их в Баию, в магазин. В тот раз вместе с керамическими «чудесами» бабушки в город уехали и кривобокие жабки и ящерки Эвы. И вечером сеу Осаин торжественно вручил смущённой и радостной девочке несколько монет:
– Это – за твоих зверей! Они очень понравились хозяйке! Энграсия! Почему ты опять ревёшь?! Свари лучше кофе, достань кашасы, и порадуемся вместе! Твоя внучка наверняка теперь не останется без куска хлеба!
Сеу Осаин часто заходил к ним – выпить бабушкиного кофе, съесть одно-другое печенье с шоколадом и корицей, вернуть прочитанную книгу (у бабушки в спальне был целый шкаф) и выкурить на пару с доной Энграсией несколько толстых сигар собственного производства. Других соседей в округе, казалось, не было. Но несколько раз за лето десятка два машин, фургонов и мотоциклов подъезжало к воротам. Дом наполнялся людьми всех оттенков коричневого. Гости шумно говорили, здоровались, обнимались, смеялись. Женщины в белых, жёлтых, голубых платьях толпились на бабушкиной кухне, готовя мясо, салаты, печенье и кофе. Дом наполнялся пряными и острыми запахами. Из залы, где ожидали мужчины, доносился аромат кофе, кашасы и сигарет. Дети, которые приезжали со старшими, носились повсюду: их никто не унимал. Эва бегала вместе с ними. Ей помнился мулат-подросток, который качал её на качелях, девушки-негритянки, со смехом заплетающие в косички её волосы, коричневый большеротый мальчишка, по виду – её ровесник, который запустил в неё перезрелой питангой, а когда Эва расплакалась, деловито вытер ей нос своей грязной майкой и подарил ракушку-бузио… Эва не очень-то задумывалась, что означают эти сборища на ферме и почему вечером из зала начинает доноситься глухой рокот барабанов. Ей ни разу даже в голову не приходило посмотреть, что делается в доме, когда всходит луна и кроны гуяв и питангейр становятся серебряными. Впрочем, к тому времени она и так уже всё знала об ориша.
Девочкой Эва просто слушала бабушкины истории-патакис[23]: о Йеманже, Матери Моря, доброй ко всем, которая спасла братьев Ошумарэ и Обалуайе, брошенных их матерью Нана Буруку. О Шанго, повелевающем грозами и бурями, – неистовом Шанго, которого регулярно доводили до белого каления собственные жёны. Об Огуне, хозяине войны и железа, сумрачном и сильном воине, которого боятся все, а больше всех – его младший брат Эшу, хитрец и негодник. О смелой воительнице Йанса, чей крик заставляет врагов трепетать. О ласковой и нежной Ошун, которая вертит мужчинами как хочет. Об угрюмой, несчастной Оба, влюблённой в собственного мужа… Об африканских божествах, которые приплыли в Бразилию четыреста лет назад в вонючих трюмах португальских каравелл вместе с насмерть перепуганными чёрными людьми. Ориша остались вместе с этими несчастными в чужой земле и разделили с ними все их горести. Бабушка рассказывала об этом так, будто ориша были её соседями или близкими знакомыми: добродушно, посмеиваясь, иногда с осуждением, иногда одобрительно. Эва знала, что ориша можно о многом попросить, и если правильно это сделать, то желания твои сбудутся. Йеманжа любит рыбу и моллюсков, учила бабушка, и, если подарить Матери Вод всё это – будешь счастлива в своей семье. Ошун дарят украшения, Эшу – сигары и кашасу, воины Шанго и Огун без ума от мяса, а некоторые вещи – НЕКОТОРЫЕ, понимаешь, Эвинья? – требуют и жертвенных петушков, и голубей, и волшебных раковин-каури. Эва морщилась, бабушка смеялась: с тёмно-коричневого лица блестели крепкие белые зубы.
«У каждого человека свой святой, малышка Эвинья, – говорила она, моя в миске чёрную фасоль и одновременно приглядывая за кофе на плите, – Мою святую ты знаешь…»
«Да, Йеманжа, – важно говорила Эва, поглядывая на керамическую статуэтку высокой чёрной женщины в голубой юбке и белой блузке, стоящую в углу бабушкиной спальни. – А кто – моя?»
«Эуа, конечно! – бабушка смеялась и ловила в фартук соскользнувший со стола початок кукурузы, – Эуа, самая красивая из ориша!»
«Самая красивая – Ошун!» – обиженно возражала Эва.
«Ничего подобного! Эта Ошун – просто шлю… Ой, боже! – бабушка поспешно шлёпала себя ладонью по губам, и Эва не осмеливалась спросить: то ли она не хотела ругаться при маленькой внучке, то ли боялась оскорбить святую. – Эуа совсем другая! Она была так прекрасна, что к ней женихи съезжались со всей округи! Они уже начали убивать друг дружку за неё! Бедная Эуа была так расстроена! Ей это ничуть не льстило, понимаешь? Ей нравилось только шить и рисовать, расписывать глиняные горшки, ткать пёстрые ткани… Всё в её руках становилось волшебным! Всё превращалось в красоту! Эуа плакала днём и ночью, видя, что мужчины потеряли разум и сражаются из-за неё! И ей совсем не хотелось выходить замуж за победителя: попробуй поживи с убийцей нескольких человек! Рано или поздно он и тебя саму убьёт, вот увидишь! Пообещай мне, девочка моя…»
«Я никогда не выйду замуж за убийцу нескольких человек!» – торопливо обещала Эва.
«Умница! – удовлетворённо кивала дона Энграсия. – Ну так вот, Эуа поняла, что надо остановить это безобразие. Выйти, что ли, в самом деле хоть за одного, чтобы остальные угомонились… И она вышла к женихам и велела им прекратить драку: она сейчас решит их проблему. Все замерли как вкопанные и не могли отвести глаз от прекрасной, сияющей, как утреннее солнце, девушки. А она возьми да превратись в лужицу воды! Солнце согрело её, и вода-Эуа вознеслась на небо, к своему брату Ошумарэ. Вот там ей стало хорошо! Ошумарэ любит сестру и ни в чём ей не мешает! Эва делает ткани из радужных нитей и рисует на облаках закат. Посмотри, как красиво у неё выходит! – бабушка махала рукой в окно, где по листьям питангейр стекали розовые и золотые лучи заката, и почему-то вздыхала. И спохватывалась. – Так мы будем пить кофе или нет? Сколько можно болтать о пустяках?!»
Они пили кофе – крепкий, чёрный, сладкий, невероятно вкусный, а для себя бабушка добавляла в угольную жидкость капельку кашасы, – ели тающее во рту печенье, и несколько штук бабушка непременно несла на голубой тарелке Йеманже. Эва смотрела в тёмное, улыбающееся лицо богини и старалась представить себе Эуа – красавицу, которой были неинтересны все мужчины на свете, потому что она любила рисовать. Гипсовая статуэтка Эуа стояла на полке рядом с другими ориша. Все святые дружно жили в доме бабушки, все изображения их стояли на алтаре рядом. И только Нана Буруку не было среди них.
Был лишь один вопрос, на который бабушка не давала ответа любимой внучке: почему мама никогда не приезжает на ферму? Почему так неохотно отпускает к доне Энграсии внучку? Почему брезгливо морщится всякий раз, когда Эва пытается рассказать о своих каникулах у бабушки? Дона Энграсия лишь тяжело вздыхала и обещала:
– Когда-нибудь, малышка, ты всё узнаешь и всё поймёшь. Не спорь с матерью. Мать – она всегда мать… Делай то, что она просит. Скоро ты вырастешь и сможешь заниматься чем угодно – но до этого ещё нужно дожить. Не ссорься с Нана, она… Она может сделать тебя несчастной.
И Эва знала, что так оно и есть.
Она хорошо помнила тот сырой и душный вечер полгода назад, когда дождь то заливал город потоками воды, то переставал, давая воде испаряться и зажигаться то там, то тут над крышами короткими радугами. Эва возвращалась домой из «Ремедиос»: сначала на трамвае, потом пешком. До дома оставалось пройти два квартала, когда из-за угла, чуть не сбив её, вылетел грузовик. Девушка с испуганным воплем прыгнула на тротуар. Грузовик остановился, завизжав тормозами. Он показался Эве военным: выкрашенным в камуфляжные цвета, обшарпанным, с открытым кузовом, с которого свисал грязный брезент. И тёмная мулатка, выскочившая из кабины, тоже была одета в военную форму. Не захлопывая за собой дверцы, она решительно шагнула на тротуар, и изумлённая Эва поняла, что молодая женщина направляется прямо к ней.