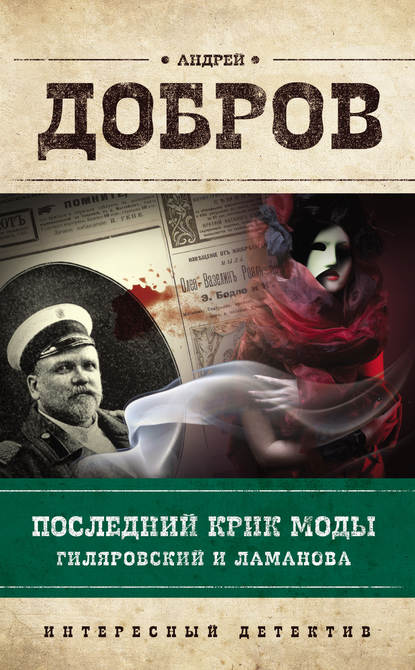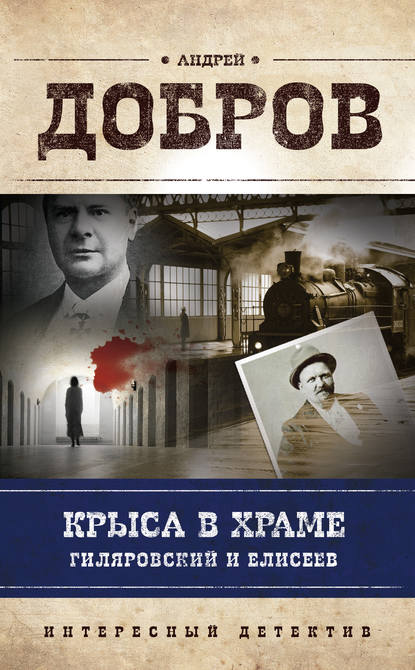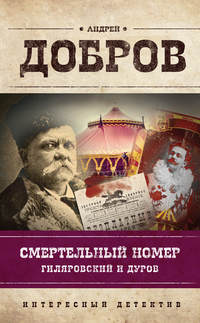Полная версия
Украденный голос. Гиляровский и Шаляпин
– Эка зарядил, – сказал сапожник, вытирая измазанные дратвой руки о подол своего замызганного пальтишки, подхваченного темно-зеленым старым кушаком. – Теперь промокнешь, пока до фатеры допрыгаешь!
– Что же? – усмехнулся я. – Разве сапоги у тебя дырявые?
– А то! – ощерил гниловатые зубы ремесленник, дыхнув сивушным перегаром. – Знамо, сапожник – без сапог!
Я посмотрел на его ноги – сапожник был в старых вязаных носках, к которым вместо подошвы он подвязал веревочками криво обрезанные куски плохой кожи.
– Пропил, что ли? – спросил я.
– А то! – снова ответил сапожник. Барышни, стрельнув в него испуганными взглядами, потеснились мне за спину.
– Ох и даст тебе жена за сапоги! – сказал я сапожнику.
– Бобыль я! – гордо заявил тот и изогнулся, осматривая нахально гимназисток. – Девки, пойдете за меня замуж? Обе сразу?
– Нина! – пискнула девушка в каракулевой шапочке. – Побежали?
И они кинулись прочь. Я рассмеялся:
– Ну, Федор Иванович! Ну, молодец! Я вас сразу и не признал! Ну вы артист! Какой грим!
Сапожник расправил плечи и стал ростом почти с меня.
– Это не просто грим, Владимир Алексеевич, – ответил он обычным своим красивым голосом, – это произведение искусства! Меня сейчас можно в Третьяковке выставлять. И даже на аукционе продать можно за несколько тысяч рублей. А как вы меня узнали?
– По цвету глаз, – усмехнулся я. – Ресницы вы покрасили в черный, а вот цвет глаз вас выдал. Нет такой краски, чтобы глаза перекрасить.
– Со сцены цвет глаз не видно, – кивнул Шаляпин.
– Но в остальном прекрасная работа! – похвалил я. – Мастак вы гримироваться!
– В том-то и дело, что это не моя работа. Сам я сегодня все утро перед зеркалом прикидывал, но сценический грим для жизни грубоват – краску сразу видно. А выручил меня Коровин. Мы с ним друзья и живем соседями – на Долгоруковской. Так что грим этот – профессионального художника. Потому я и говорю, что меня можно в Третьяковке выставлять. Ну что, кажется, дождь перестал. Пошли?
– Пошли.
Дождь не то чтобы перестал, но стал почти незаметным. Мы выбрались из-под навеса и зашагали в сторону Хитровки.
– Вы бывали в Лондоне, Федор Иванович, – спросил я Шаляпина, который снова перевоплотился в сапожника.
– Я теперь не Федор Иванович, – ответил тот. – Зови меня, барин, Федькой Косым. Или просто – Косым.
– Ну, уж Федьку Косого я бы и не стал спрашивать про Лондон.
– А то! Нет, барин, не бывал. С Казани я. Приехал в Москву на заработки, потому как со старого места погнали меня злые люди. Чуть в Сибирь не упекли! За ерунду – мол, с ворованными кожами работал! Нешто мы знаем – ворованные оне или неворованные! Нам приносят, мы тачаем. Света не видим, сидим в подвалах, пальцы кровянкой обливаются от шила…
Я про себя молча удивлялся переменой, произошедшей с Шаляпиным. Он перевоплотился не только внешне – казалось, что внутри него теперь сидит другой человек, вытеснивший прежнего певца, – и этот другой человек был настоящим сапожником – одним из десятков тех, кого я знал по московским трущобам. Они и вправду сидели по полутемным подвалам и по «квартирам» в ночлежках – раздетые, разутые, с черными от дратвы, огрубевшими пальцами. Все их имущество составляли шило, сапожная игла да железная «нога», на которую они надевали заготовку сапога или ботинка. Полученные деньги тут же пропивались, скоротечные семейные союзы распадались. Вся жизнь их была – пьянство, работа и постоянные скандалы. Настоящая городская беднота. И вот один из таких представителей коренной городской бедноты сейчас шагал рядом со мной, шаркая по булыжникам своими «подошвами».
– А чой ты про Лондон спросил?
– Вот, дорогой мой Федька, – ответил я. – Мне Лондон всегда представлялся наполненным туманом, загадочным и страшноватым местом. Когда я первый раз увидел Хитровку, то она показалась мне очень похожей на Лондон – тот же туман и та же опасная неизвестность, скрытая в нем. Сам я в Лондоне не бывал. Интересно было бы сравнить его с нашей Хитровкой.
Мы спускались по переулку к Хитровскому рынку, окруженному со всех сторон большими ночлежными дворами. И действительно, чем ниже мы опускались, тем больше сгущался в воздухе туман. Сам рынок не было видно вовсе – на его месте лежало грязное облако, – так всегда бывало после дождя, когда дым от сотен хитровских очагов и костерков смешивался с водяным паром, поднимавшимся от этого места скопления тысяч грязных и потных людей. Зрелище облака, скопившегося на дне этой огромной низины, произвело на Шаляпина такое впечатление, что он забылся, сапожник уступил место певцу. Шаляпин выпрямился во весь рост и присвистнул:
– Выглядит как преисподняя.
– Выглядит как ад, а на самом деле еще хуже, – отозвался я. – Вернуться домой не хотите?
Шаляпин бросил в мою сторону раздосадованный взгляд. Видно было, что даже само зрелище московской клоаки со стороны пугает его. Но он бросил вызов не только себе, но и мне, а потому снова сгорбился, скосил глаза и сказал голосом Федьки Косого:
– Ну ниче! Люди везде живут.
И мы продолжили спуск в ад, я впереди – как Вергилий, а певец за мной – как автор «Божественной комедии».
Наконец туман полностью поглотил нас. Булыжник под ногами сменился чавкающей грязью. По глухим невнятным звукам можно было определить, что мы попали в толпу, однако видны были только люди вокруг нас да еще огоньки. Мы двинулись вдоль ряда торговок, сидящих на чугунных горшках – своими темными грязными юбками они укрывали чугуны, совсем как тряпичные бабы, которые надевают на заварочные чайники самоваров.
– Чей-то у них в чугунах? – спросил Косой.
– Тушенка, гнилая картошка, тухлая колбаса.
– Дешево?
– Окстись, Федор! – остановился я. – Отравишься!
– Эх, дядя, – подмигнул мне серый глаз. – Знал бы ты! Года три назад я бы уже все это лопал за милую душу!
– Пошли-пошли! – Мне пришлось потянуть его за рукав, чтобы оторвать от созерцания оборванца, лакомившегося разваливающимся рулетом из коровьих потрохов. Потроха исходили паром на воздухе, пар смешивался с хитровским туманом, а маленькая пегая собачка, не отрываясь, смотрела в лицо оборванцу, ожидая упавшего кусочка требухи из его мокрого двузубого рта.
Маленькие попрошайки, вившиеся среди толкучки, увидели, что мы остановились, и тут же ринулись к нам – человек восемь – не меньше. Тут были и постарше – лет десяти, и совсем маленькие, которые только и умели лепетать: «Пепеечку! Пепеечку! Дай! Дай! Дай пепеечку!» Чумазые, разной степени худобы, но с одинаковыми профессионально-жалостливыми глазами, они хватали нас за рукава и куда-то тянули. Я знал, что в данный момент их более старшие товарищи нацелились уже на наши карманы – пока мы будем отбиваться от мелкоты, начинающие карманники быстро вынут все, что там лежит. Потому я быстро вытащил из кармана специально заготовленный двугривенный и бросил от себя подалее. Ребятня, зачарованная полетом сверкающей монетки, вмиг бросилась к месту, куда она упала, а я повлек Шаляпина дальше от этого места.
– Проверьте карманы – всё ли на месте? – спросил я его.
Он сунул руку в карман пальтишка и достал оттуда свой серебряный портсигар.
– Всё на месте.
– Хорошо, что не стащили. Просто не успели. Но пока отдайте мне.
– Зачем? – Шаляпин прижал дорогой ему портсигар к груди.
– У меня сохранней будет. Да и вы – забудетесь, захотите покурить, да и вытащите его. А там, куда мы идем, эту вещь сразу заметят. Могут за нее и убить.
Поколебавшись, певец наконец отдал мне портсигар. Я открыл его, посмотрел на папиросы и покачал головой – хотел поначалу высыпать их Шаляпину, чтобы тот положил в карман, но марка оказалась слишком дорогой – окружающие нас босяки могли и не понять, отчего это беглый сапожник курит такую дорогую марку. Засунув портсигар во внутренний карман пиджака, я подошел к торговке, купил у нее махорки и несколько кусочков газеты, нарванной для скручивания «козьих ножек». По иронии судьбы это оказались куски как раз «Русских ведомостей», куда я писал в то время, впрочем, все реже и реже.
– «Козью ножку» скрутить сумеете? – спросил я у Шаляпина, передавая ему покупку.
– А то! – ответил он голосом Косого, ссыпал табак в карман, сунув туда же и газетные обрывки.
Мы пошли дальше, сопровождаемые обычным хитровским женским хором, который простуженными голосами ревел свою обычную песню:
– Лапша-лапщица! Студенец коровий! Рванинка! Рванинка! Бери, кавалер, потрошка!
А дальше толкались, терялись в тумане, копошились, ругались, хрипели, воняли махорочным тяжелым дымом люди. Люди ли? Оборванцы всех мастей, всякого разбору, все дно нашей русской жизни. Оставались ли они всё еще людьми или уже превращались в некий перегной, на котором когда-нибудь в будущем взрастет некое молодое древо? Да нет! Если и взрастет что-то на этой отравленной почве, то только древо с железными ножевыми лезвиями вместо листьев, со ржавой проволокой вместо ветвей, с осыпающимся трухой, корявым стволом. И уж конечно с ядовитыми плодами, которые отравят всю Первопрестольную! Хотя и тут, на самом дне, видал я характеры замечательные. Однако они, отравленные хитровским тяжелым туманом, скоро гасли. Гасли навсегда.
– Видал я нищету, – пробормотал Шаляпин. – Но вот так, чтобы в одном месте собралась вся нищета – такого я не видал еще.
– Это, дорогой сапожник, еще чистая по местным меркам публика, – ответил я. – Вот сейчас мы с тобой подходим к «Каторге». Там уж совсем другой коленкор. Ты лучше помалкивай, я сам обо всем договорюсь.
– Стало быть, идем мы в центр этого ада? – спросил Шаляпин.
– Не-е-ет! – ухмыльнулся я. – Это скорее будет у нас преисподняя. Самый ад там – у нас под ногами.
– Как это, дядя?
– Видишь – вокруг ночлежки да трактиры? Под каждым нарыли подземные ходы с тайными убежищами. Вот там – да, там ад. А здесь… Здесь, считай, еще белый свет!
Плечи Шаляпина передернулись.
– А есть и другие места – худшие, чем «Каторга», – продолжил я просвещать своего спутника, – есть «Утюг», есть «Кулаковка», «Сухой овраг». Туда я и сам побаиваюсь ходить.
Тут мы наконец оказались перед ночлежным домом Ярошенко, а вернее, перед низенькой дверью, за которой и скрывался наш конечный пункт путешествия по хитровскому аду – трактир «Каторга».
– Что ж, – сказал я, останавливаясь. – Готов ли? Помнишь, чему я тебя учил? Молчи и слушай. А станут спрашивать – отвечай коротко.
Шаляпин кивнул.
– Ну тогда, – я взялся за деревянную ручку двери, – добро пожаловать!
И распахнул дверь.
Туман окутывал всю Хитровку. Но из раскрывшегося зева «Каторги» на нас обрушилось более густое и зловонное облако пара и махорочного дыма, в уши ударила музыка, крики, пьяный смех и матерная ругань вперемежку со стуком стаканов и невыносимым сухим кашлем. Шаляпин аж отшатнулся, но я уже шагнул в низкий дверной проем, и ему ничего не оставалось, как последовать вслед за мной.
Если бы Господь мановением руки уничтожил бы висящий здесь покров дыма и пара, нашему взгляду открылась бы большая зала со столами, стульями, дверью в кухню и посетителями. Сумели бы мы рассмотреть маленькие оконца, большей частью без стекол, забитые досками и заткнутые вонючим тряпьем. Увидели бы угол, где на черных от копоти табуретах сидели музыканты – гармонист и кларнетист. Но Всевышний в мудрости Своей никогда такого не делал. И потому скрытыми для нас остались и обшарпанные до старого бурого кирпича стены, и дальние углы, где за грязными столами сидели личности самого бандитского вида, и музыканты. Видели мы только слой грязи на полу, нанесенный стоптанными сапогами и рваными ботинками местной публики, соседние столики да валяющегося у порога полуголого, избитого до багровых синяков старика, которого быстро ухватили за босые ноги и утащили за дверь.
Не было тут никаких мэтров, встречающих гостей. Мы сами прошли почти на середину залы и сели за пустующий столик. Шаляпин сначала замешкался положить локти на его липкую поверхность, но потом вспомнил, что на нем не фрак, а старое драное пальто, не стал чиниться.
Подбежал половой и принял у меня заказ – две бутылки водки и пяток моченой антоновки.
– Так, – сказал я, осматриваясь. – Ну, накоптили, хоть топор вешай! Где же они?
– Кого ты ищешь, дядя? – спросил Косой.
– «Теток»?
– Каких теток?
– Ходят сюда каждый вечер, – отвечал я рассеянно, продолжая взглядом рассматривать залу.
– Проституток, что ли?
– Уж и не знаю, как тебе объяснить. Приезжают в Москву молодые девчонки из провинции – наняться в услужение или на какую работу. На вокзале вор ее выследит, паспорт и деньги украдет. А потом явится перед ней как благодетель – мол, чуть не земляк. «Выручать» начнет. Приведет сюда, на Хитровку, в ночлежный дом пристроит. А потом обесчестит, сделается ее любовником. Ну и начнет ставить на работу – продаваться хитровским пьяницам за гроши.
– Сутенер?
– Ну, на местном наречии всех их кличут «котами». Он ее хоть и продает, но все равно остается для несчастной любовником. И проституцией она занимается не из-за денег, а из-за любви к нему.
– Из-за любви? – пораженно переспросил Шаляпин.
– Так точно.
Половой принес две бутылки водки, явно местного разлива – ни этикеток, ни фабричных пробок, заткнуты они были бумажными закрутками серой плохой бумаги. На щербатой тарелке горкой были сложены отличные моченые антоновские яблоки.
– Не отравят? – с тревогой спросил Шаляпин.
Я посмотрел на него строго, и певец понял, что от волнения снова вышел из образа.
– А все одно помирать, что от работы, что от водки! – бросил он и, вытащив бумажную затычку, плеснул себе в стакан. Но плеснул совсем чуть-чуть, едва донышко прикрыл. Понюхал, страдальчески наморщился и опрокинул стакан внутрь.
– Это вы зря, – спокойно сказал я, вынул чистый носовой платок и сначала тщательно протер свой стакан, – бог знает, какая тут зараза. Тут и тиф можно подхватить, и холеру…
Лицо Шаляпина побледнело, а глаза выпучились.
– А еще, – продолжил я безжалостно, – добрые люди могут вам подлить «малинку» в водку, очнетесь голым на улице. Если, конечно, очнетесь.
– Ка… какую малинку? – испуганно прошептал Шаляпин.
– А это такая смесь опия и хлороформа. Если надо кого-то быстро опоить до бесчувствия, подливают ему в питье «малинку».
– Меня сейчас стошнит! – просипел Шаляпин.
– А это – пожалуйста, – кивнул я. – Никто тут особо и не заметит. Но лучше – выйди на улицу.
После чего я аккуратно налил в свой стакан из той же бутылки и медленно выпил, крякнув и занюхав антоновкой. Шаляпин прищурился:
– Шутишь, дядя?
Я невинно поднял брови:
– Нисколько!
– А сам не боишься?
Я самодовольно усмехнулся.
– Пей. Со мной тут безопасно. Меня тут знают.
Федька Косой плеснул себе водки на полстакана и выпил, потом закусил антоновкой.
– Ну так что по моему делу? – спросил он, потихоньку оглядываясь.
Я кивнул головой вправо:
– Вон туда смотри. Видишь, сидят бабы за столиком? Одна из них – та, кто тебе нужен.
Я, свистнув, подозвал полового и прошептал ему на ухо:
– Ну-ка, малый, беги к «теткам» и скажи, что Акулину репортер зовет на два слова.
Половой выполнил поручение, и скоро от стола с «тетками» отошла наша будущая визави – женщина неопределенного возраста, кутавшаяся в линялый сиреневый платок – всклокоченная, с одутловатым от пьянства лицом и по той же причине заплывшими водянистыми глазками. Я давно заметил, что все пропойцы в какой-то момент начинают походить друг на друга как родственники, как братья и сестры – лица у них одного нездорового цвета, одинаково опухшие. И глаза одинаково заплывшие, с тождественным друг другу отсутствием какого бы то ни было выражения. Акулина плюхнулась на стул напротив меня и спросила хрипло:
– Ну, че надо?
Я спросил стакан для дамы и налил ей водки. Стакан Акулина взяла красной шершавой рукой с грязными, обгрызенными до корней ногтями, понюхала и, запрокинув голову так, что стала видна давно немытая шея с серыми тонкими полосками, выпила.
– А ты как думаешь? – спросил я.
Она прищурила и без того свинячие глазки, осмотрела меня с презрением и бросила:
– Чей-то ты к нам приперся, барин? С твоими деньгами мог бы и благородных еть! Че, хитровского отсоса захотел?
Шаляпин чуть не выдал себя энергичным шевелением бровей. Это привлекло внимание Акулины.
– Иль ты для вот энтого меня позвал? Проиграл ему в карты, што ли? Ну… – Она присмотрелась к Шаляпину. – …энтот хоть из наших. Энтому могу и вполцены дать. Пошли ко мне, красавчик?
Она схватила его за руку и дернула к себе. Но я перехватил ее пальцы и заставил отпустить рукав моего подопечного.
– Погодь. Сначала со мной.
– С тобой? – Она посмотрела на меня мутным своим глазом. – Шас!
Взяв бутылку, она опрокинула ее в свой стакан и налила чуть не до края. Потом медленно высосала его до дна и уронила на стол.
– Ну, теперь я и с тобой готова. Пошли. А потом вот с ним! – указала она обгрызенным ногтем на Шаляпина.
– Никуда мы с тобой не пойдем, – ответил я, – нам с тобой поговорить надо. Вот – полтинник, смотри. Видишь?
Акулина сфокусировала взгляд на полтиннике и попыталась его схватить, но я резко убрал кулак с зажатой в нем монеткой.
– Расскажи нам, как ты своего ребенка удавила.
Акулина с пьяной хмуростью посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Косого, потом снова на меня. Я опять показал ей монетку.
– Зачем?
– А мне по работе нужно. Ты же знаешь – я тут часто появляюсь, всякие истории собираю. Вот – понадобилось.
– Налей!
– Не налью. Сначала расскажи.
– А че тут рассказывать?
– А ты все же расскажи.
Акулина, поняв, что ей не отвертеться от рассказа, оперлась локтем о стол, положила свою опухшую физиономию на сжатый кулак и начала:
– Ну че… Было энто два… три… ну, три года назад, ладно. Был у меня «кот» – Сигай. Сигай! Потому как облава, он тут же в окно сигал. И другим орал: «Сигай!» За то и прозвали. Ну че – «кот» как «кот». Тьфу! Даже вспоминать это не хочу! Ладно… В общем, понесла я. Не убереглась. А как понесла, так у меня брюхо выросло. И заработка от этого никакого. Потому как кто захочет иметь брюхатую на сносях? А вдруг он хрен засунет, а оттуда – малец ему на хрен полезет? Ну, Сигай меня бил поначалу – думал, что выкину. А у меня, видать, утроба чугунная. Никак не выкидывался. И дело идет – рожать буду. В ночлежке и родила. А Сигай к тому времени уже в Нерчинск загремел. Одна я осталась, да еще со спиногрызом. Ну, думаю, продам его нищенкам – пусть с ним ходят, христарадничают. Вот, думаю, допью и продам. А че-то водки много на крестины принесли…
– Кто крестил, – спрашиваю, – Лавров?
– Он! Кому же еще! Это… Крестины справляем. А малец крикливый был. Орал все время…
– Есть хотел? – спросил я.
– Может, и хотел. Да мне некогда было. Плохо я себя чувствовала! – В этом месте, казалось, Акулина обрела, наконец, почву под ногами. – Плохо мне было! Я ж только недавно как родила! Вот и лечилась я. От слабости!
– Ну и?
– А он – орет! Чего орет? Куда орет? Уже и сил не было. Взяла я подушку старую, на лицо ему положила, сама сверху прилегла и задремала. Задремала я… Просыпаюсь, а он уж холодный…
Тут вдруг маленькие свинячьи глазки ее стали мокрыми, и по рябым от пьянства щекам потекли слезы:
– Сыночек мой! Лежит холодненький! Глазки открыты! Ой, горе мне! Пропал мой сыночек! Пропал!
Я быстро налил ей водки, и Акулина, всхлипывая и стуча коричневыми редкими зубами о край стакана, выпила. Потом концом платка вытерла глаза, щеки и подбородок, зажав ноздрю, высморкалась прямо на пол и продолжила как ни в чем не бывало:
– Ну, я его в рогожку завернула и вынесла.
– Куда вынесла?
– Ну… на помойку отнесла. А что – на Ваганьковском мне его хоронить?
– И все? – спросил Шаляпин.
Акулина посмотрела на него свысока:
– И все! И работать пошла. А че? Деньга нужна. Жить-то надо?
– Сюда работать? – спросил Шаляпин.
– Ну да! А куда еще? Кондуктором на конку, што ли?
И Акулина мелко затряслась, скорее не смеясь, а кудахтая над своей шуткой:
– Кондуктором на конку, што ли?
– А скажи мне, – спросил я, когда она отсмеялась, – совесть тебя не гложет? Ведь ты его как есть – убила.
– Совесть? – пьяно прищурясь, переспросила девка. – Со-о-о-овесть?
Она склонила кудлатую голову набок, как будто прислушивалась к эху только что сказанного слова.
– Ты, барин, пацанчиков этих на Хитровке видел? Оборвышей? Попрошаек? Вот и мой, ежели выжил бы, таким же стал. Не-е-ет. Совесть меня не мучает. Нам тут совесть не по карману!
Какая-то тень легла на стол, за которым мы сидели. Я обернулся. За моей спиной стоял наголо остриженный брюнет с перебитым носом. Смотрел он не на меня, а на Акулину.
– Ты че тут трындишь? А ну – иди работай! – приказал он.
– А я ничё, – покорно ответила Акулина и встала.
– Погоди, – сказал я. – Вот.
И положил перед ней полтинник. Акулина взяла.
– А ну, отдай мне! – приказал брюнет.
Акулина покорно протянула ему монетку.
– Ну-ка, постой, – вдруг подал голос Шаляпин. Он повернулся к брюнету: – Ты кто такой тут – командовать?
Я встревожился. Казалось, певец мой решил вмешаться, не подозревая, чем это может для него окончиться. Надо было быстро брать дело в свои руки.
– Федька! – грозно прикрикнул я. – Не лезь!
Но певца было не остановить.
– Не тебе заплатили! – сказал он брюнету.
Тот нервно облизал свои пухлые губы и быстро оглянулся, но «Каторга», казалось, не заметила назревающей ссоры – она по-прежнему орала, шумела и кашляла.
– Федька! – снова прикрикнул я.
– А че Федька? – отозвался Шаляпин. Потом приказал Акулине: – Спрячь! И не отдавай!
Она растерянно пожала плечами, сунула монетку куда-то на грудь и, покачиваясь, пошла прочь от нашего стола. Брюнет в два прыжка догнал ее и с размаху ударил прямо в ухо. Баба как подкошенная рухнула на грязный пол. Шаляпин вскочил так резко, что опрокинул стул и грязно выругался. Я схватил его за рукав, но он вырвал его у меня, собираясь кинуться на брюнета. Тот почувствовал его намерение и выхватил из кармана опасную бритву. Все это сделал он молча, без обычного для Хитровки лаяния и матерщины.
Вот тут «Каторга» и почувствовала запах крови. Инстинктом почувствовала – все эти беглые каторжники, воры, «коты» со своими «тетками», все они вдруг замолчали на секунду, оборвалась музыка, прекратилось шарканье ног и кашель. Я знал, что не смогу удержать Шаляпина – он был ростом с меня и моложе почти на двадцать лет. Но если он кинется в драку, то тут его и зарежут. Мне было и певца жалко, и не хотелось самому становиться героем криминальной хроники – я уж понимал, как про этот случай распишут конкуренты в «Русском листке»!
– Федя! Стой!
Я схватил поудобнее свою трость, быстро примериваясь, как вклиниться между дерущимися.
И тут в опасной тишине проревел иерихонский бас:
– Ныне отпущающи!
Лавров! Явился не запылился!
Услышав этот пусть и хриплый, но мощный бас, Шаляпин вздрогнул и расслабился. Появившаяся между ним и брюнетом фигура была поистине колоритной. Одетый в грязную женскую рубаху с короткими рукавами, из которых торчали мощные волосатые запястья, со смоляной кудлатой бородой, бывший семинарист, сын священника, Лавров обладал удивительно мощным, но зверским голосом, вполне сочетавшимся с его зверским же лицом. Служил он в «Каторге» вышибалой и никакой другой платы не брал, кроме как водкой. Вечно босой, вечно расхристанный, он казался лет сорока, хотя на самом деле ему было не больше двадцати пяти – то есть он был сверстником Шаляпину. Брюнет, увидев Лаврова, одним движением спрятал бритву, подхватил под потную подмышку Акулину и потащил ее, покорную, в темный угол.
– Изыди! – крикнул ему вдогонку Лавров и сел за наш стол.
– А ты чего вскочил? – спросил он Шаляпина. – Садись!
Шаляпин опустился на стул. Возбуждение еще не совсем покинуло его, но было заметно, что появление Лаврова с его «зверским» басом заинтересовало певца.
– Ну-тка, плесни мне беленькой, – попросил Лавров, пододвигая оставленный Акулиной стакан. Я щедро исполнил его просьбу.
– А это кто с тобой? – поинтересовался Лавров, кивнув на Шаляпина. – Никогда его рожу тут не – видел.
– Знакомый сапожник с Казани, – кивнул я и снова налил стакан бывшему семинаристу, поскольку предыдущую порцию он махнул стремительно, даже не крякнув.
– А чего сюда?
– Было чего.
Лавров кивнул. Он, как и прочие обитатели Хитровки, не особенно интересовался прошлым своих новых знакомцев. Чужие сюда и так не ходили – уж больно неуютное место. А полицейский надзор за рынком осуществлял городовой Рудников – детина с пудовыми кулаками, который по большей части спал или пил в своем участке, не особо вмешиваясь в гниение местного болота, если к тому не было начальственного приказа. А уж что делать во время нечастых облав, местные обитатели знали назубок – так, как будто с этим умением родились. Иногда мне казалось, что и материнскую утробу они покидали именно так – стоило акушеру крикнуть над роженицей «Двадцать шесть!» – сигнал тревоги, как тут же будущий каторжник сигает в этот мир, и тут уж только неперерезанная пуповина удерживает его, чтобы не ускакал он в подземное нутро Хитровки, чтобы схорониться там в какой-нибудь вонючей темной щели.