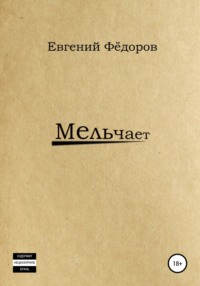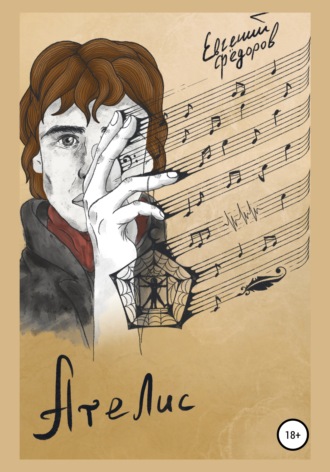
Полная версия
Ателис
– Я дерзну вам о ней напомнить, ибо именно высокая вероятность подобного исхода служила истинным стимулом и мерилом искусства в древнее время. И, как вы знаете, лично я до сих пор уничтожал бы всякого, кто забыл, для чего небо поставило печать на его лоб.
– Коллега, – низко заговорил Болс, чьи светлые волосы, казалось, приподнялись всеми луковицами, – мне кажется, сейчас не тот момент, чтобы вспоминать… Тем более теперь, когда начались эти странные разговоры… Мы не должны лишний раз…
– Вы слишком молоды, арти Болс, – неожиданно грубо осёк его Эс Каписто и громко закашлялся, отчего все присутствующие вздрогнули. – Рулетка – это вам не пара лет в тюремной камере древности. Вы играли в «русскую рулетку»? Я вам продемонстрирую!
Волнение зашевелило воздух, а Эс Каписто вынул из-за пояса шестизарядный револьвер.
– Арти Эс Каписто, мне тоже не кажется уместным… – начал было Говард Грейси, но, усмирённый авторитетом председателя, Эс Каписто уже и без того осознал неуместность предпринимаемого и убрал оружие, не тронув барабана.
– Я потому и ношу с собой этот кольт, что разговоры, как справедливо заметил Болс, пошли. Не допущу и приблизиться к себе. – Он не договорил. – А вы знаете, арти Болс, как именно рассчитывалось количество взводов?
– Мы знаем, коллега, разумеется, право, не стоит, – участливо потянул к нему руки Фруко.
– Нет, я напомню нашему молодому соратнику, который, быть может, в своё время проспал эту лекцию. Так вот, дорогой Болс. Один суицид в городе равнялся одному вращению барабана и следующему за ним нажатию курка. Два суицида – два вращения. И после каждого – курок. Знаете, какова ваша вероятность выжить, если вы спустили курок пять раз? Пятьдесят на пятьдесят. А если шесть – скорее всего, вы труп. Один лишний минор, помноженный на одно следующее за ним самоубийство, один неосторожный мазок кистью, одно неотточенное слово в книге – всё приближало вас к смерти.
Гром за окнами стих, и за ним последовал монотонный стук капель по карнизу кабинета, в котором повисла пауза.
– Да, коллега, – заговорил первым Говард Грейси, – конечно, в былые времена психика наших сограждан была не так крепка. Но ведь весь этот нынешний шёпот по углам – вздор, вы сами понимаете. И ведь читали Оруэлла, Кафку… И читают. – Он возвысился над столом, как мессия над горой, с которым не спорят, а лишь принимают каждое слово. – Современные люди – уже не дети древности, и к тому же лучше образованы. Нам не стоит опасаться возвращения былого варварства.
– Разумеется, арти Грейси. Но вы не хуже всех нас знаете, – почтительно и с достоинством склонил голову Эс Каписто, – как шаток мир человеческой психики. И как зависит сознание человека от внешних факторов, над которыми, замечу, вполне не властны ни вы, ни я, ни любой из нас. Я ничего не исключаю, – завершил он и задумчиво опустился в кресло, кашляя и болтая бокал, в котором тонко стекали ко дну вертикальные полосы.
– Да-с, – решительно, по-врачебному, шлёпнул себя по коленям Фруко и поднялся из кресла. – В конце концов, что нам за дело, как расслышал пьесу или понял картину некий конюх!
– Ну, коль ваше искусство – для конюхов… – улыбнулся Шульц.
– Я творю для человека, мсье Шульц, – вздёрнул рыжий палец Фруко, и в интонации его прочиталась неожиданная твёрдость. – Но если меня потащат на плаху за мои строки… Впрочем, мы заболтались, господа. Какая может быть плаха. И какая «рулетка»! Это всё Эс Каписто нас запугивает, негодник. Ха-ха-ха!
Смех не встретил поддержки.
– Да, вы ещё вспомните того чудака, который намеревался опоясать планету проводами, чтобы соединить все наши новые машины… Как же их… – принялся тереть шрам на лбу Фруко.
– Компьютеры, – подсказал Болс.
– Да, именно, компьютеры – в одну сеть. Будто рыбу! Ха-ха-ха!
Болс натужным комом проглотил остатки коньяка.
– Судья отправил его в смирительный дом.
– Да, именно! Именно! – упоённо пьянел Фруко. – А ведь какой бы вышел из парня фантаст! Э-эх! – Он громко опустил стакан на поднос. – Даже жаль.
«Да, жаль», – согласились остальные, и лишь Болс окинул мрачным взглядом опустевший бокал.
– Впрочем, всё это вздор, – произнёс Фруко.
– Что именно? – с вызовом сдвинул белёсые брови Болс.
– И плахи, и «рулетки», и ваши с Эс Каписто странные страхи.
– Эти страхи взялись не с потолка, – горячо возразил Болс, – настроения в Ателисе уже ухудшаются.
– Ну кто, кто вам это сказал?! – вскричал Фруко. – Лично я ни о каких шёпотах и слухах, как и прочей ерунде, кроме как от вас, ни от кого больше не слышал!
– Если вы не слышали, это значит лишь то, что вы засиделись в своём кабинете. Когда вы вообще в последний раз посещали рабочие кварталы?
– Дорогой Болс, мне ни к чему там бывать. Всё, что мне нужно для жизни и работы, как вы знаете, находится в пределах пяти минут от моего дома.
– Именно. Об этом я и говорю. Откуда вам знать о настроениях горожан, вы долгие годы не встречаетесь ни с кем, кроме коллег.
– А вы?
– А у меня недавно украли золотые часы!
Тишина заполнила кабинет. Все четверо в изумлении посмотрели на Болса.
– Что случилось с вашими часами? – первым переспросил Эс Каписто.
– Да! – взвизгнул Болс, будто сорвавшись с резьбы. – У меня пропали часы, что достались мне от отца!
– Как? – подключился Говард. – Когда?
– На прошлой неделе.
– Кража? Вы хотите сказать, вас обокрали? – сурово уточнил Шульц.
– Вы удивительно точно трактуете мои слова, – с саркастической издёвкой отозвался Болс.
– Помилуйте, вы, верно, потеряли или забыли их где-нибудь.
– Мсье Шульц, семейных реликвий не забывают и тем более не теряют. Особенно золотых. Если бы вы знали, что для меня значили эти часы, вы бы поняли недопустимость вашего предположения и постыдились бы говорить мне подобное.
– Простите, коллега, – осторожно, сутулясь, подошёл к нему Фруко, – ведь вы понимаете, что значит кража в Ателисе? Это невероятно серьёзно.
– Я как никто понимаю, что это значит, – недружелюбно взглянул на него Болс. – Именно поэтому настаиваю на обоснованности наших с Эс Каписто подозрений.
– Господа, – поддержал Эс Каписто, – а ведь вспомните, как несколько месяцев назад я рассказал вам о пропаже бумажника, а вы все убедили меня, что дело просто в старости, которая, как вы выразились, не щадит даже арти. Но я тогда, признаюсь теперь честно, так и не поверил в собственную рассеянность, хоть и не исключал этого окончательно. Теперь же, когда у нашего молодого друга, уж точно не страдающего ни худой памятью, ни слабоумием, пропадает одна из самых дорогих для него вещей…
– Самая дорогая, – поправил Болс.
– Тем более! Коллеги, это кража, тяжкое преступление. И, как я полагаю, уже не первое. Что же будет дальше! И вы, как и прежде, не считаете опасения, о которых твердим вам мы с Болсом, обоснованными?
– Друзья, друзья, – торопливо затрещал Фруко, – давайте не спешить с резолюцией.
– Да, – поддержал его Шульц, – я предлагаю повременить с выводами. Дорогой Болс, вернёмся к этому разговору позже? Если, скажем, через пару недель ваши часы не отыщутся, мы обсудим это снова и непременно что-нибудь решим.
Болс окинул коллег ищущим поддержки взглядом и понял, что кроме Эс Каписто ему никто не поверил.
– Я рад, что мы собрались, – в знак окончания разговора поднял руку Говард Грейси, – но вынужден просить прощения, и спешу откланяться – работа требует домашней обстановки и родных стен.
Он одним движением выплеснул в себя обжигающие остатки разлитого Болсом по пяти бокалам коньяка и по очереди пожал четыре крепкие ладони. Первым покинул кабинет Болс, сорокалетний скульптор, известный внутри «Пятёрки Ателиса» грубоватой замкнутостью и внезапными шедеврами, поражавшими город свежестью и незапачканностью взора.
Эта встреча стала последней для председателя, из чьих бесчувственных пальцев несколько часов спустя неизвестные руки вытянули синюю с золотой каймой папку, в которой жило величайшее из всего им созданного.
История искусства насчитывала немалое количество арти. Но в любом отрезке времени творили, подпитывая и поддерживая в ателисцах способность чувствовать прекрасное, не более тридцати или сорока. Они безраздельно владели правом созидания, и единственным пропуском в мир творцов служила метка арти.
Учебники истории рассказывали, что когда-то в Ателисе главенствовала свобода творчества и для любого мало-мальски одарённого жителя с лёгкостью раскрывались резные двери издательств, галерей и пышных концертных залов, что и привело довольно скоро к загрязнению культуры графоманской и звукосодержащей продукцией и, как следствие, к упадку города вместе с нравами его обитателей. Тогда и было решено впредь наделять правом тиражирования лишь произведения гениев, без лазеек для «просто способных» сынов Ателиса.
Благодаря сделанным в прожитые времена выводам город вскормил на шедеврах общество, замешанное на жажде прекрасного, как маскарпоне на сливках, – людей, под которыми цементела мораль, неколебимая и несокрушимая.
3. Дело Говарда Грейси
Прощание с Говардом Грейси привело к зданию филармонии десятки тысяч ателисцев, движимых горьким желанием преподнести великому арти последний букет. Рассчитанная на первую половину дня, церемония завершилась лишь к вечеру. Чёрные автобусы каждые полчаса с траурным гулом отправлялись к месту погребения, дрожа внутри горой свежих роз, гвоздик и тюльпанов, чей аромат тянулся вместе с километровой чередой мрачных, но светлых людей. Уже ближе к полуночи цветы увенчали своим многотонньем свежий холм, в котором утонул мраморный памятник.
Вечер памяти Мария решила провести назавтра.
Первым в жилище Грейси прибыл заметно постаревший за несколько дней и без того седой Шульц. За ним последовали вечно багровый Фруко вместе с Эс Каписто, в чьих руках подпрыгивал элегантный зонт-трость. Сорокалетний, вполне годившийся им в сыновья Болс вошёл в зал с камином позже остальных, тучно переваливаясь и поминутно обтирая платком напряжённые щёки. Предложив ему занять за столом последнее пустовавшее место, Мария, держась за деликатность манеры как за сдерживающий стон щит, обратила к собравшимся нездоровое лицо.
– Я благодарю вас, господа! Мы с Беном признательны вам за то, что вы посетили наш дом, хотя я уверена, сейчас вы предпочли бы побыть каждый наедине с собой.
– Миссис Грейси… Мария! – немедленно подлетел к ней Фруко и с жаром сжал бледность её ладоней. – Не сомневайтесь, для нас эта величайшая потеря значит не меньше!
– Благодарю, – подняла тусклые глаза Мария, отчего Фруко сконфузился и, оробело извиняясь всеми телодвижениями, вернулся за стол. – Мы с сыном надеемся, что сегодняшний вечер пройдёт в тёплых воспоминаниях, а не угрюмом молчании. Угощайтесь, господа, прошу вас!
Чуткие к вдовьему сердцу, гости послушались. Очень скоро они взыграли духом, за чередой весёлых и казусных историй о Говарде не позволяя Марии утопать в горе. Бокал за бокалом, на лице её заиграла редкая, чуть болезненная улыбка. Герба едва успевала следить за тем, чтобы фужеры не пустели, суетливо подливая в первую очередь Бену, который, заняв отцовское кресло у камина, потягивал вино и наблюдал за происходящим из-под чёрных вьюнов, покрывавших лоб. Встретившись взглядом с Болсом, он вдруг приподнял бокал, посылая молодому арти тост. Тот не ответил и залпом допил коньяк. Затем поднялся из-за стола и проговорил:
– Прошу меня извинить, господа, я оставлю вас ненадолго.
Бросив на Бена потный, взволнованный взгляд, он вышел. Бен последовал за ним.
На улице только что утих дождь. Болс шумно втянул влажный воздух, и порыв ветра согнал светлые волосы на широкое лицо. Убрав лохматые кудри, арти произнёс:
– Что говорит следователь? Убийство?
– Ты уже в курсе? Да, он приходил.
Болс помолчал.
– Ты ведь понимаешь, что начнётся в городе, если полиция заявит об убийстве? Понимаешь, что это событие чрезвычайное?
– Неслыханное, – лениво потёр мочку уха Бен.
Болс вынул сигару и, сломав две спички подряд, с трудом раскурил её, процедив:
– Зачем мы кормим полицию, если она бессильна в тот редкий момент, когда от неё понадобился толк, – именно так скажут все.
– Не паникуй. Наши следователи знают о раскрытии убийств не больше, чем написано у Достоевского.
– И в учебниках по криминалистике, – заметил Болс.
– Последние из которых – позапрошлого века, – кивнул Бен и убедительно поднял палец. – Улики, Болс. Неопровержимые, прямые улики – вот что имеет значение.
Бен откинулся на дверь, за которой гулко прогремел приступ коллективного смеха.
– Защитная реакция, – усмехнулся он.
Болс тоскливо посмотрел на него и произнёс:
– Завтра в половине третьего, в «Старом каретнике».
– Хорошо.
– Не опаздывай, у меня не будет времени ждать.
Они вернулись в дом, когда хмельной Фруко возбуждённо что-то вкрикивал в гостей, по своему обыкновению активно жестикулируя посреди зала:
– Господа, поймите меня правильно!
– А вы правильно изъяснитесь, – поднял из-за стола насмешливый взгляд Шульц.
– Я ведь не то чтобы настаиваю! Я всего лишь… Я не призываю вас разделять мои взгляды!
– Тогда зачем вы их озвучиваете? – равнодушным тоном произнёс облокотившийся на каминную стену Эс Каписто, чьи помеченные краской манжеты поблёскивали звёздами, отражая огонь.
– Коллеги! Мария! – заметался, ища поддержки, Фруко. – Болс! Как вы вовремя, милый мой! Молю, поддержите старого литератора! Я говорю, что если публичный человек чувствует ответственность за тех, кто к нему прислушивается и почитает его талант, то это прекрасно – честь ему и хвала. Но ведь он совсем не обязан брать на себя этот груз!
– Последнего арти, который думал так же, суд обязал трижды щёлкнуть курком у виска, – заметил Эс Каписто и зашёлся коротким кашлем в кулак.
– Не обязан творец нести ответственность за воспитание чужих ему людей! – горячо продолжал, будто не заметив этой реплики, Фруко. – Это задача исключительно родителей, ведь так? – И он заглянул в глаза Марии, пытаясь найти в них участие.
Она неловко улыбнулась и жестом остановила Гербу, выглянувшую из кухонного коридора с запечатанной бутылкой «Сильванера» в руках. Герба кивнула и вернулась на кухню вместе с вином.
– Это вам-то эти люди – чужие? – пришёл на помощь Марии Шульц, отчего-то как будто оскорблённый словами Фруко. – Коллега, вы, вероятно, теперь во хмелю и забыли, что вы – арти.
Фруко пылко вскинул рыжую руку.
– Арти Шульц, искусство ни в одном из его видов не должно нести воспитательной функции! Я не желаю более формировать ничьи взгляды на бытие и ни на чьё мировоззрение влиять не хочу, понимаете?
– Должно быть, у вас просто кризис, дорогой Фруко, – улыбнулся Шульц. – Вы же за год не написали ни строчки не потому, что груз ответственности придавил вам руки.
– Ваше снисхождение неуместно и оскорбительно, коллега!
– Остыньте, Фруко, окажите милость. Не кипятитесь так, – прервал молчание Болс и положил мясистые ладони на сухие старческие плечи.
То ли под тяжестью рук, то ли вняв уговорам, скандалист умолк и уныло посмотрел на дно высохшего фужера.
Болс усадил его за стол и услужливо выложил перед ним на тарелку солидный кусок жирного, запечённого с розмарином осетра. Фруко принялся вяло ковырять рыбу вилкой.
И в этот момент тишину пронзила трель звонка. Хозяйка отворила дверь, и на пороге возник изнурённого вида человек. Лицо Марии потемнело. Помешкав, она посторонилась, приглашая гостя в зал.
– Позвольте представить… – в неловкой задумчивости обернулась она к гостям.
– Догг, – смущённо шепнул визитёр.
– Позвольте представить, господа! Мистер Догг, следователь полиции.
Вошедшая в зал Герба выронила на ковёр бутылку вина, по счастью оказавшуюся по-прежнему неоткупоренной.
– Догг?! – воскликнул Шульц, помогая девушке поднять «Сильванер» и попутно настаивая жестами, что дальше всё сделает сам. – Это имя, достойное истинного сыщика!
Следователь поклонился присутствующим учтиво и с достоинством.
– Прошу нас извинить, – с видимой неохотой сказала Мария и скрылась в кухне вместе с гостем.
– У вас какая-то срочная новость, мистер Догг? – сухо произнесла она, прикрыв дверь и приглашая гостя садиться.
– Скорее, предвидимая, – уселся следователь и стыдливо поёжился. – Я намерен закрыть дело об убийстве арти Грейси.
Лицо Марии не дрогнуло ни единым мускулом.
– Мы не нашли следов отравления. Всё говорит о том, что его хватил удар. Это сердце, миссис Грейси.
– Закрывайте, мистер Догг. И я очень прошу вас, как можно скорее.
Замешательство в глазах следователя сменилось подобием надежды.
– Но пропажа, миссис Грейси… Даже, скорее, ограбление… Ведь это свидетельствует об убийстве.
– Мистер Догг, – устало опустилась на стул Мария. – Я понимаю, чем чревато для вас следствие, обречённое на поражение. К тому же у вас нет улик, ведь в противном случае вы не пришли бы. Как и не собирались бы закрыть дело. Я правильно вас понимаю?
Догг опустил голову и выдохнул обречённо и виновато.
– Я устала, господин следователь. Меня бросает в дрожь при мысли, что мне придётся пережить, если следствие не прекратится. Говард умер. И всё, чего я теперь желаю, – дожить в этом доме остаток дней в тишине и по возможности в спокойствии.
Следователь понимающе кивнул и поднялся со стула так мучительно, будто ему сорвало спину.
– Я понял вас, миссис Грейси.
– И очень прошу вас, – поднялась следом Мария, – потрудитесь не предавать огласке тот факт, что версия об убийстве вообще рассматривалась. Таким сведениям ни к чему покидать пределы семьи. Вы не представляете, что значит быть супругой арти, – её голос дрогнул. – Я не желаю для себя судьбы вдовы убитого мастера. Давайте не усложнять жизнь ни нам с вами, ни Ателису.
Догг понимающе поджал сухие губы.
– Прощайте, миссис Грейси.
Он взялся за дверную ручку, помедлил и обернулся.
– А почему ваша дверь ночью не была заперта?
– Мы часто не запираем дверей. Не заперли и в тот раз. Нынче очень душная весна.
– Да, вы правы, – задумчиво пробурчал Догг. – И, боюсь, полная сюрпризов.
– Всего доброго, господин следователь. Позвольте, я провожу.
Они переместились из кухни в зал. Когда дверь дома за спиной полицейского закрылась, Бен и Болс обменялись взглядами.
4. Воцарение
В нынешнем виде Ателис сформировался около века назад. Барочные дома, арочные дворы и покатые крыши, с которых рисовались картинные закаты и разноцветные мозаики городских стен, – всё это бурлило гордостью в сердцах жителей, совершенно точно знавших, что нет на земле града величественнее и пышнее. Об этой исключительности писали газеты, это воспевалось в операх и романах, этим восторгалось телевидение, ограниченное единственным каналом.
По периметру город опоясывало плотное кольцо двадцатиметровой бетонной стены. Детям с первого класса рассказывали, наглядно иллюстрируя фильмами и фотографиями, как выглядит жизнь за пределами Ателиса, навсегда отбивая даже у самых любопытных желание выглянуть за стену. И правда, ни к чему ехать на скотобойню, если в деталях знаешь, какие пейзажи пестрят внутри.
Люди за стеной не писали книг, музыки и картин – каждый житель Ателиса уяснял это с рождения, как и то, что слабым нужно помогать, а нищих духом варваров, обитающих за стеной, – воспитывать.
Единственным экспортным товаром города было просвещение. Литература, музыка и живопись, облекаемые здесь в шедевры, поставлялись за стену, из-за которой, в свою очередь, в Ателис поступали деньги, продовольствие и регулярные вести о фурорах, производимых там романами, операми и художественными выставками, пускай и среди не самой широкой – в большинстве своём, конечно, варварской – аудитории.
Соседи же – так именовали в Ателисе обитателей по ту сторону стены – иногда присылали некоторым арти письма с рассказами о том, как раз и навсегда изменилась их жизнь после погружения в стратосферу величия гения. Арти наполнялись благодарностью и писали трогательные ответы, творя затем на приливе бодрящего заряда воодушевлённее и смелее.
Могучая «Пятёрка Ателиса», ставшая за последние двадцать лет тремя китами культурного величия города-государства, укрепила искусство в сознании ателисцев на ментальном, почти генетическом уровне. Чуждые тщеславия, арти не стремились зарабатывать на своём гении, получая и без того полную чашу признания и благ. И никому из них не приходило в голову, что ход событий однажды может сбиться, разрушив жизнь, в которой нет преступности, подлости и грязи.
Жители Ателиса, особенно нежного пола, любили гулять по центральным улицам – отчасти из-за обилия деревьев, которых в рабочих кварталах было ощутимо меньше, отчасти потому, что здесь можно было посетить роскошный, разносольный ресторан, не теряя при этом в деньгах по сравнению с заведениями за пределами центра.
Женщины просыпались, решали, что сегодня у них хороший день, и кокетливо прихорашивались вдвое ювелирнее и усерднее обычного, после чего направлялись по своим первым, вторым, пятым, двадцать пятым, сороковым – и так до восьмидесяти – улицам к пятиугольникам Брамса, Грига, Дебюсси и других выдающихся арти. Разноцветными компаниями по трое или пятеро они гуляли, шутили и щурили счастливые глаза в яркое небо. У многих были шестидесятилетние руки и двадцатилетние глаза – напряжённая недельная работа к выходным взращивала в них голод, который утолялся в театрах, ресторанах и книжных лавках, коими был испещрён центр Ателиса, где работали арти с чиновниками и отдыхали все остальные.
Чугунные мостовые к полудню начинали отдавать накопленное тепло, и можно было пройтись босыми, натруженными ногами по нагретой улице или улизнуть от солнца в тень пышного дуба.
Один из таких дубов окунал в прохладу веранду ресторана «Старый каретник», одного из лучших в Ателисе, возведённого на месте конюшни на полсотни лошадей. Семьдесят лет назад её снесли, и в тени вековой кроны вырос трактир, в котором прежде восторгались свежим элем городские конюхи и извозчики. С годами контингент разросся – вместе с трактиром и толщиной меню.
На следующий за визитом следователя день Бен, раскинувшись за небольшим столиком под светящейся свежестью листвой, потягивал из запотевшего бокала мутный лимонад и поминутно поглядывал на часы.
Ровно в половине третьего на веранде появился Болс с кожаным портфелем в пухлых руках. Окинув хмурым взглядом пустую веранду, он подсел к Бену и поставил портфель на пол.
– Как я и полагал, никого, – произнёс он и, вынув платок, обтёр широкий, блестящий от непривычно жаркого апреля лоб со шрамом.
– Все в трауре, – кивнул Бен. – Да и нам пока веселиться не с чего.
– Да уж, – потянулся к портфелю Болс.
– Постой.
Рядом со столиком возникла миловидная девчушка в переднике и с солнцем в волосах.
– Будьте добры, милая, принесите мне то же самое, – указал Болс на лимонад.
Кротко поклонившись, барышня удалилась.
– Да, милая. Свежее росы, – проводил её масляным взглядом Бен.
– Совершенно очаровательна, – кисло согласился арти, складывая влажный платок в карман шероховатого двубортника.
– Кстати, Болс, а чем ты займёшься, когда мы со всем разберёмся? Женишься, быть может?
Немедленный укоризненный взгляд заставил Бена замахать руками.
– Прости, прости, дорогой друг. Я не арти, наверное, потому и не понимаю.
– А пора бы начинать понимать, коль скоро уж ты сам метишь в арти, – заметил Болс. – Арти без метки – всё равно что слепой художник. Ты, по всей видимости, не до конца понимаешь, какие нас могут поджидать сложности. И на твоём месте, кстати, я бы сейчас вовсе забыл о женщинах. Это может поломать всё дело.
– Будь спокоен, дружище. Я умею держать в узде порывы. И не только собственные.
– Очень на это надеюсь, потому что в противном случае…
Тоненькая рука бережно поставила перед ним шипящий цитрусом бокал и исчезла так же внезапно, как появилась. Болс, наконец, расстегнул портфель и выложил на стол синюю папку с золотой каймой по периметру. Бен с минуту поглядел на неё. Так смотрят на новенькую пластинку, которую только что купили, но не торопятся класть под иглу проигрывателя, растягивая удовольствие и поглаживая обложку. Так вдыхают запах музейной книги, к которой давно тянулись руки. Бен раскрыл папку и аккуратно вынул исписанные нотные листы.
– Сколько времени нужно? – осушил разом полбокала Болс.
– Думаю, за неделю разучу, – задумчиво посчитал страницы Бен. Их оказалось двадцать семь.
– Нет, – Болс категорично мотнул блондинистыми кудрями. – Слишком долго. Решать надо быстрее. Пластинка помогла бы. Сможешь сыграть под запись?
– С листа? – он снова в задумчивости пересчитал страницы. – Думаю, да. За завтрашний день управлюсь.