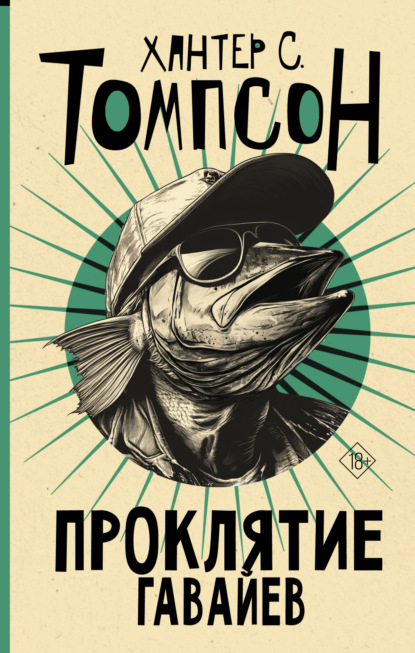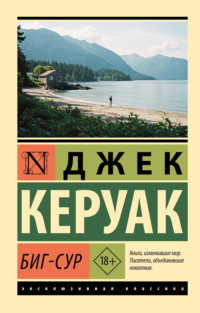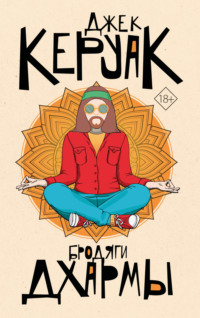Полная версия
На дороге
– Валяй, только быстрей.
– И вам по глотку достанется! – заверил их я.
– Нет-нет, мы не пьем, давай сам.
Кент из Монтаны и оба старшеклассника бродили вместе со мной по улицам Северного Платта, пока я не нашел лавку с виски. Они скинулись понемногу, Кент тоже добавил, и я купил квинту. Высокие угрюмые мужики, сидя перед домиками с фальшивыми фасадами, наблюдали, как мы идем мимо: вся главная улица была у них застроена такими квадратными коробками. За каждой унылой улочкой раскрывались громадные пространства равнин. В воздухе Северного Платта я ощутил что-то иное, я не знал, что именно. Минут через пять понял. Мы вернулись к грузовику и рванули дальше. Быстро стемнело. Мы все вкиряли по чуть-чуть, тут я взглянул окрест и увидел, как цветущие поля Платт начали исчезать, а вместо них так, что и конца-краю не видать, возникали долгие плоские пустоши, песок да полынь. Я поразился.
– Что это за черт? – крикнул я Кенту.
– Это пастбища начинаются, парень. Дай-ка мне еще глотнуть.
– В-во как! – орали студенты. – Коламбус, пока! Что бы Живчик с пацанами сказали, очутись они тут. Й-яуу!
Водители впереди поменялись местами; свежий братишка шарахнул грузовик до предела. Дорога тоже изменилась: посередке горб, покатые обочины, а по обеим сторонам – канавы глубиной фута по четыре, и грузовик подпрыгивал и перекатывался с одного края дороги на другой – только чудом в это время никто не ехал навстречу, – а я думал, что все мы сейчас кувырнемся. Но братья водили отпадно. Как этот грузовичок расправился с небраскинской шишкой – той, что налезает на Колорадо![19] И вскоре я понял, что и впрямь попал наконец в Колорадо – хоть официально я в него не попал, но если смотреть на юго-запад, то Денвер всего в каких-то нескольких сотнях миль. Я завопил от восторга. Мы пустили пузырь по кругу. Высыпали здоровенные пылающие звезды, песчаные дюны, сливаясь с далью, потускнели. Я себя чувствовал стрелой, способной долететь до самого конца.
И вдруг Джин с Миссисипи повернулся ко мне, очнувшись от своего терпеливого созерцания по-турецки, открыл рот, наклонился поближе и сказал:
– Эти равнины мне Техас на ум наводят.
– А ты сам из Техаса?
– Нет, сэр, я из Грин-велла, Маз-сипи. – Вот как он это сказал.
– А пацан откуда?
– Он там, в Миссисипи, попал в какую-то заварушку, и я предложил помочь ему выбраться. Парнишка никогда сам нигде не был. Я о нем забочусь как могу, он еще ребенок. – Хоть Джин и был белый, в нем жило что-то от мудрого и усталого старого негра, а иногда проявлялось что-то очень похожее на Элмера Гасселя, нью-йоркского наркомана, да, в нем такое было, но только это такой железнодорожный Гассель, Гассель – бродячий эпос, пересекающий страну вдоль и поперек каждый год, на юг зимой, на север летом, и лишь потому, что у него нет такого места, где мог бы задержаться и не устать от него, и потому, что ехать ему больше некуда, кроме как всюду, он продолжал катить дальше под звездами, в основном – звездами Запада.
– Я пару раз бывал в Ог-дене. Если хочешь доехать до Ог-дена, то у меня там друзья, у них можно залечь.
– Я еду в Денвер из Шайенна.
– На хрена? Поезжай прямо, не всякий день такая прогулка выпадает.
Такое тоже соблазняло. А что в Огдене?
– Что такое Огден? – спросил я.
– Такое место, через которое почти все проезжают и всегда там встречаются; там скорее всего кого хочешь увидишь.
Раньше, когда ходил в моря, я был знаком с длинным костлявым парнем из Луизианы по имени Дылда Газард, Уильям Гольмс Газард, который был хобо по выбору. Еще маленьким увидел он, как к его матери подошел хобо и попросил кусочек пирога, и та ему дала, а когда хобо ушел по дороге, мальчик спросил:
– Ма, а кто этот дядя?
– А-а, это хо-бо.
– Ма, я хочу стать хо-бо, когда вырасту.
– Рот закрой, Газардам не пристало. – Но он так и не забыл того дня, а когда вырос, то после непродолжительного увлечения футболом за УШЛ[20] действительно стал хобо. Мы с Дылдой провели множество ночей, рассказывая друг другу разные истории и плюясь табачным соком в бумажные стаканчики. Во всей манере Джина с Миссисипи что-то настолько несомненно напоминало Дылду Газарда, что я спросил:
– Ты случайно где-нибудь не встречал чувака по имени Дылда Газард?
И тот ответил:
– Ты имеешь в виду такого длинного парня, который громко ржет?
– Да, вроде похож. Он из Растона, Луизиана.
– Точно. Его еще иногда зовут Длинным из Луизианы. Да, сэр, конечно, я встречал Дылду.
– Он еще работал раньше на нефтеразработках в Восточном Техасе.
– Правильно, в Восточном Техасе. А теперь гоняет скот.
И это было уже совершенно точно; но все-таки я никак не мог поверить в то, что Джин по правде знает Дылду, которого я искал ну, туда-сюда, несколько, в общем, лет.
– Еще раньше он работал на буксирах в Нью-Йорке?
– Ну, насчет этого не знаю.
– Так ты, наверно, знал его только по Западу?
– Видать. Я ни разу не был в Нью-Йорке.
– Черт бы меня побрал, просто поразительно, что ты его знаешь. Такая здоровая страна. И все-таки я был уверен, что ты его знаешь.
– Да, сэр, я знаю Дылду довольно неплохо. Никогда не жмется, если заводятся деньги. Злой, крутой такой парняга к тому ж: я видел, как он уложил легавого на сортировке в Шайенне, одним ударом. – И это на Дылду походило: он постоянно отрабатывал свой «один удар» в воздух; сам он напоминал Джека Демпси[21], только молодого и пьющего.
– Черт! – завопил я навстречу ветру, отхлебнул еще, и вот уже мне стало недурно. Каждый глоток уносило прочь летящим навстречу воздухом открытого кузова, вред его стирался, а польза оседала в желудке. – Шайенн, вот я еду! – пел я. – Денвер, берегись, я твой!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Имеется в виду И́дит Фрэнсез Паркер (И́ди) Керуак (1922–1993), писательница, с 1944 г. первая жена Керуака (они познакомились в 1942-м через Анри Крю). Их брак распался и был расторгнут в сентябре 1946 г.
2
«Greyhound Lines» (с 1914) – американская компания междугороднего автобусного сообщения.
3
«Hector’s» – в районе Таймс-сквер в середине XX в. существовало четыре заведения с таким названием, и все были вполне популярны. Последнее закрылось в январе 1970 г.
4
Бунвильская исправительная колония (с 1889) – детская мужская колония в штате Миссури, была знаменита своими скверными условиями, упразднена в 1983 г.
5
Орвон Гровер (Джин) Отри (1907–1998) по кличке «Поющий ковбой» – американский певец, автор песен, актер, музыкант и артист родео.
6
Амедео Клементе Модильяни (1884–1920) – еврейско-итальянский художник-экспрессионист и скульптор, живший и работавший во Франции.
7
Имеется в виду основной комплекс Нью-Йоркской городской тюрьмы, с 1932 г. расположенный на острове в Восточной реке между Куинзом и Бронксом.
8
«Bellevue Hospital» (с 1736) – старейшая общественная больница в США; в 1879 г. на ее территории был воздвигнут особый «павильон для безумцев» (что было революционным решением в психиатрии того времени), поэтому с тех пор «Беллвью» используется как метоним «дурдома».
9
«Riker’s» – сеть нью-йоркских ресторанов, основанная Э. Уильямом Райкером и существовавшая в 1930-х – 1970-х гг.
10
«The New Yorker» (с 1925) – общественно-политический и литературный журнал.
11
Ек. 5:17, парафраз.
12
Сандалии (искаж. исп.).
13
Имеется в виду Ассоциация молодых христиан (АМХ) – неполитическая международная организация, чье американское отделение было основано в 1851 г. в Бостоне.
14
«The Loop» – обиходное название центральной части Чикаго, бытует с конца XIX в., когда были проложены линии канатного трамвая (1882) или построено кольцо надземки (1895–1897).
15
Чарлз Паркер-мл. (1920–1955) по прозвищу «Птенчик» или «Птица» – американский джазовый саксофонист и композитор. «Ornithology» (1946) – бибоповый стандарт, сочиненный Паркером и трубачом Бенни Хэррисом. Майлз Дьюи Дейвис 3-й (1926–1991) – американский джазовый трубач, композитор и руководитель оркестра.
16
Исправительный центр в Джолиэте (1858–2002) – тюрьма штата Иллинойс.
17
Речь о т. н. «Пыльной лоханке» (The Dust Bowl) – засушливом районе на Западе (в штатах Канзас, Колорадо, Оклахома, Нью-Мексико и Техас), сильнее всего пострадавшем от пыльных бурь 1933–1935 гг.
18
Hobo – странствующий работник, в США это понятие с непроясненной этимологией бытует с 1890-х гг. Отличается от «бродяги» (tramp), кто работает только если приходится, «бича» (bum), кто не работает никогда, и «сезонника» (okie), кто мигрирует вслед за урожаями сельскохозяйственных культур.
19
Имеется в виду западный выступ территории штата Небраска, охватывающий с севера северо-восточный угол территории штата Колорадо.
20
Университет штата Луизиана.
21
Уильям Хэррисон (Джек) Демпси (1895–1983) – американский профессиональный боксер, чемпион мира в тяжелом весе (1919–1926).