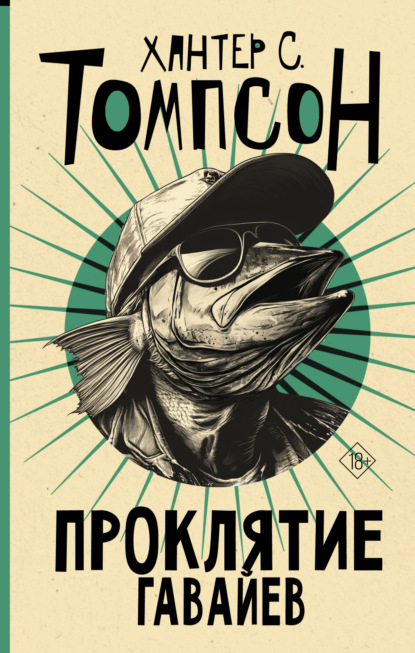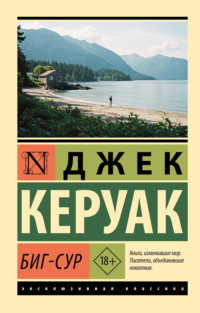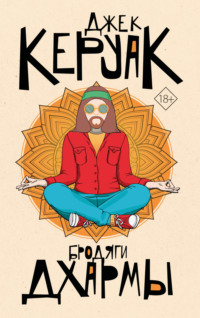Полная версия
На дороге

Джек Керуак
На дороге
Jack Kerouac
On The Road
© Jack Kerouac, 1955, 1957
© Stella Kerouac, 1983
© Stella Kerouac and Jan Kerouac, 1985
© Перевод. М. Немцов, 1992, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020
* * *Часть первая
1
Я впервые встретил Дина вскоре после того, как мы с женой расстались[1]. Тогда я едва выкарабкался из серьезной болезни, о которой сейчас говорить неохота, достаточно лишь сказать, что этот наш убого утомительный раскол сыграл в ней не последнюю роль, и я чувствовал, что все сдохло. С появлением Дина Мориарти началась та часть моей жизни, какую можно назвать жизнью на дороге. Я и прежде часто мечтал отправиться на Запад посмотреть страну, но планы всегда оставались смутными, и с места я не трогался. Дин же парень для дороги идеальный, поскольку даже родился на ней: в 1926 году его родители ехали на своей колымаге в Лос-Анджелес через Солт-Лейк-Сити. Первые рассказы о нем я услышал от Чада Кинга; Чад и показал мне несколько его писем из исправительной школы в Нью-Мексико. Меня эти письма неимоверно заинтересовали, поскольку в них Дин так наивно и так мило просил Чада научить его всему, что тот сам знал про Ницше и все остальные дивные интеллектуальные штуки, какие Чад знал. Как-то раз мы с Карло говорили о тех письмах в том смысле, что познакомимся ли мы когда-нибудь с этим странным Дином Мориарти. Все это было еще давно, когда Дин был не таким, как сегодня, а насквозь таинственным пацаном только что из тюрьмы. Потом стало известно, что Дина выпустили из той исправиловки, и он впервые в жизни едет в Нью-Йорк; еще ходили разговоры, мол, он только что женился на девчонке по имени Мэрилу.
Однажды я шлялся по студгородку, и Чад с Тимом Греем сказали мне, что Дин остановился на какой-то квартире без удобств в Восточном Гарлеме, в Испанском. Приехал накануне ночью, в Нью-Йорке впервые, с ним – его красивенькая шустрая подружка Мэрилу; они слезли с междугородной «Борзой»[2] на 50-й улице, свернули за угол, чтоб найти чего-нибудь поесть, и сразу зашли к «Гектору»[3], и с тех самых пор «Кафетерий Гектора» навсегда остался для Дина главным символом Нью-Йорка. Они тогда истратили все деньги на красивые здоровенные кексы с глазурью и пирожные со взбитыми сливками.
Все это время Дин излагал Мэрилу примерно следующее:
– Ну, милая, вот мы и в Нью-Йорке, и хоть я не совсем еще рассказал тебе, о чем думал, когда мы ехали через Миссури, а особенно – в том месте, где мы проезжали Бунвильскую колонию[4], которая напомнила мне собственные тюремные дела, теперь совершенно необходимо отбросить все, что осталось от наших личных привязанностей, и немедленно прикинуть конкретные планы трудовой жизни… – и так далее, как он обычно разговаривал в те первые дни.
Мы с парнями поехали к нему в эту нору без удобств, и Дин вышел открывать нам в одних трусах. Мэрилу как раз спрыгивала с кушетки: Дин отправил обитателя квартиры на кухню, возможно – варить кофе, а сам решал свои любовные проблемы, ибо секс для него оставался единственной святой и важной вещью в жизни, как бы ни приходилось потеть и материться, чтоб вообще прожить и так далее. Все это было на нем написано: в том, как он стоял, покачивая головой, вечно глядя куда-то вниз, кивал, будто молодой боксер наставленьям, чтоб ты поверил, будто он впитывает каждое слово, вставляя тысячу всяких «да» и «точно». С первого взгляда он мне напомнил молодого Джина Отри[5] – ладный, узкобедрый, голубоглазый, с настоящим оклахомским выговором – эдакий герой заснеженного Запада с бачками. Он и в самом деле работал на ранчо у Эда Волла в Колорадо до того, как женился на Мэрилу и приехал на Восток. Мэрилу была миленькой блондинкой с громадными завитками волос – целое море золотых локонов; она сидела на краешке кушетки, руки свисали с колен, а дымчато-голубые деревенские глаза смотрели широко и неподвижно, потому что вот она торчит в норе серого злого Нью-Йорка, о котором столько слышала еще на Западе, и ждет, словно длиннотелая чахлая сюрреалистическая женщина Модильяни [6] в серьезной комнате. Но помимо того, что Мэрилу была милашкой, глупа она была до жути и способна на ужасные поступки. Той ночью все пили пиво, боролись на локотках и болтали до самой зари, а наутро, когда мы уже оцепенело сидели и докуривали бычки из пепельниц при сером свете унылого дня, Дин нервно поднялся, походил взад-вперед, подумал и решил, что самое нужное сейчас – заставить Мэрилу приготовить завтрак и подмести пол.
– Другими словами, давай шевелиться, милая, слышь, что я говорю, иначе получится сплошной разброд, а истинного знания или кристаллизации своих планов мы не добьемся. – Тут я ушел.
На следующей неделе он признался Чаду Кингу, что ему абсолютно необходимо научиться у того писать; Чад ему ответил, что писатель тут я и за советом надо ко мне. Тем временем Дин устроился на автостоянку, поссорился с Мэрилу на квартире в Хобокене – Бог знает, чего их туда занесло, – и она так рассвирепела и замыслила глубоко внутри такую месть, что позвонила в полицию с каким-то вздорным истеричным идиотским поклепом, и Дину пришлось из Хобокена свалить. Жить ему было негде. Он поехал прямиком в Патерсон, Нью-Джерси, где я жил со своей теткой, и как-то вечером сижу я занимаюсь, а в дверь стучат, и вот уже Дин кланяется и подобострастно расшаркивается в полумраке прихожей, говоря при этом:
– Прив-вет, ты меня помнишь – Дин Мориарти? Приехал попросить тебя мне показать, как надо писать.
– А где Мэрилу? – спросил я, и Дин ответил, что она, видимо, выхарила у кого-нибудь несколько долларов и вернулась в Денвер – «шлюха!». И вот мы с ним пошли выпить пива, потому что разговаривать так, как нам хотелось, при тетке, которая сидела в гостиной и читала свою газету, мы не могли. Она бросила на Дина один-единственный взгляд и решила, что он шалый.
В баре я ему сказал:
– Ёксель, чувак, я очень хорошо понимаю, что ты ко мне приехал не только чтоб стать писателем, да и в итоге сам я об этом знаю только одно, что на этом надо залипать, как на бенни.
А он ответил:
– Да, конечно, я знаю точно, что́ ты имеешь в виду, и все эти проблемы на самом деле мне тоже приходили в голову, но я хочу реализации таких факторов, что в случае, если придется полагаться на шопенгауэровскую дихотомию для любого внутренне постигаемого… – и так далее в том же духе, такого я ни чуточки не понимал, да и он сам тоже. В те дни он и впрямь не соображал, о чем говорит; иными словами то был просто едва-едва откинувшийся юный зэк, зацикленный на дивных возможностях стать настоящим интеллектуалом, и ему нравилось разговаривать тем тоном и употреблять те слова, но как-то совершенно замороченно, какие слышал от «настоящих интеллектуалов», – хотя учтите, он не был так уж наивен во всем остальном, и ему понадобилось лишь несколько месяцев провести с Карло Марксом, чтобы полностьюосвоиться во всяких специальных словечках и жаргоне. Однако мы прекрасно поняли друг друга на иных уровнях безумия, и я согласился, чтоб он остался у меня дома, пока не найдет работу, мало того – мы уговорились как-нибудь отправиться на Запад. Было это зимой 1947-го.
Однажды вечером, когда Дин ужинал у меня – он уже работал на стоянке в Нью-Йорке, – а я бойко тарахтел на своей машинке, он перегнулся мне через плечо и сказал:
– Давай, дядя, девчонки ждать не будут, закругляйся.
Я ответил:
– Погоди минуточку, вот только главу закончу, – а то была одна из лучших глав во всей книге. Потом я оделся, и мы понеслись в Нью-Йорк увидеться с какими-то девчонками. Пока автобус шел в жуткой фосфоресцирующей пустоте тоннеля Линкольна, мы держались друг за друга, потрясая пальцами, орали и разгоряченно болтали, и я начал подсаживаться на Дина. Парня попросту до чрезвычайности будоражила жизнь, но если он и был пройдохой, так лишь оттого, что уж очень хотел жить и общаться с людьми, которые иначе бы не обращали на него никакого внимания. Он и меня разводил, и я это знал (с жильем, едой и тем, «как писать» и проч.), и он знал, что я это знаю (оно и было основой наших отношений), но мне было плевать, и мы прекрасно ладили – не доставая друг друга, но и не церемонясь; ходили друг за дружкой на цыпочках, будто только что трогательно подружились. Я стал учиться у него так же, как он, видимо, учился у меня. О моей работе он говорил:
– Валяй дальше, все, что ты делаешь, – клево. – Заглядывал мне через плечо, когда я писал свои рассказы, и вопил: – Да! Так и надо! В-во, дядя! – Или говорил: – Ф-фуф! – и промокал лицо носовым платком. – Слушай, в-во – ведь еще столько можно сделать, столько написать! Как хотя бначать все это записывать без наносных стеснений и всяких зависов на литературных запретах и грамматических страхах…
– Все верно, чувак, дело говоришь. – И некое подобие священной молнии, видел я, сверкает из его возбужденья и его видений, какие описывал он таким потоком, что люди в автобусах оборачивались на этого «психа перевозбужденного». На Западе он провел треть своей жизни в бильярдной, треть – в каталажке, а треть – в публичной библиотеке. Видели, как он рьяно несется по зимним улицам с непокрытой головой, таща книжки в бильярдную, или карабкается по деревьям, чтоб попасть на чердаки кого-нибудь из корешей, где обычно сидел целыми днями, читая или прячась от закона.
Мы поехали в Нью-Йорк – я забыл, в чем там дело, какие-то две цветные девчонки, – никаких девчонок там не было; они должны были с ним встретиться в закусочной и не пришли. Поехали на его стоянку, где ему что-то надо было сделать – переодеться в будке на задворках, прихорошиться перед треснутым зеркалом, что-то вроде, – а уж потом двинулись дальше. Как раз в тот вечер Дин повстречался с Карло Марксом. Грандиозная штука произошла, когда они встретились. Два таких острых ума приглянулись друг другу тут же. Скрестились два проницательных взгляда – святой пройдоха с сияющим разумом и печальный поэтичный пройдоха с разумом темным, то есть Карло Маркс. С той самой минуты Дина я видел только изредка и мне было как-то обидно. Их энергии сшибались лбами, а я в сравнении был просто лохом и не мог держаться с ними наравне. Тогда-то и началась вся эта безумная кутерьма; потом она затянула всех моих друзей и все, что у меня оставалось от семьи, в большую тучу пыли, застившую Американскую Ночь. Карло рассказал ему про Старого Быка Ли, про Элмера Гасселя и Джейн: как Ли в Техасе выращивал траву, как Гассель сидел на острове Райкера[7], как Джейн бродила по Таймс-сквер вся в бензедриновых глюках, таская на руках свою малышку, и принесло ее в Белльвью [8]. А Дин рассказал Карло про разных неизвестных людей с Запада, типа Томми Снарка, косолапой гастролирующей акулы бильярда, картежника и святого чудилы. Рассказал и про Роя Джонсона, про Большого Эда Дункеля – корешей своего детства, уличных корешей, про своих бессчетных девчонок и половые попойки, про порнографические картинки, про своих героев, героинь, приключения. Они вместе носились по улицам, врубаясь во все по-раннему, что потом стало намного грустней, проницательно и пусто. Но тогда они выплясывали по улицам, как дурошлепы, а я тащился за ними, как всю жизнь волочился за теми, кто мне интересен, потому что единственные люди для меня – это безумцы, те, кто безумен жить, безумен говорить, безумен спасаться, алчен до всего одновременно, кто никогда не зевнет, никогда не скажет банальность, а лишь горят они, горят, горят, как сказочные желтые римские свечи, взрываясь среди звезд пауками, а посередке видно голубую вспышку, и все взвывают: «А-аууу!» Как звали таких молодых людей в гётевской Германии? Всей душой желая научиться писать как Карло, Дин первым же делом напал на него всею своей любвеобильной душой, какая бывает лишь у пройдох:
– Ну, Карло же, даймне сказать – вот что я говорю… – Я не видел их недели две, и за это время они зацементировали свои отношения до зверских масштабов вседневного и всенощного трепа.
Потом пришла весна, клевое время путешествий, и каждый в нашей рассеявшейся компании готовился к той или иной поездке. Я был занят своим романом, а когда дошел до срединной отметки, то, съездив с теткой на Юг проведать моего братца Рокко, приготовился впервые отправиться на Запад.
Дин уже уехал. Мы с Карло проводили его со станции «Борзой» на 34-й улице. Наверху у них там было место, где за четвертачок можно сфотографироваться. Карло снял очки и стал выглядеть зловеще. Дин снялся в профиль, при этом жеманно оборачиваясь. Я сфотографировался прямо, отчего стал похож на тридцатилетнего итальянца, готового порешить всякого, кто хоть слово скажет против его матери. Эту фотографию Карло и Дин аккуратно разрезали бритвой посередке и спрятали половинки себе в бумажники. На Дине специально для великого возвращения в Денвер был настоящий западный деловой костюм: парень кончил свой первый загул в Нью-Йорке. Я говорю «загул», но Дин лишь впахивал на своих стоянках, как вол. Самый фантастический служитель автостоянок в целом мире, он может задним ходом втиснуть машину в узкую щель и тормознуть у самой стенки с сорока миль в час, выпрыгнуть из кабины, пробежаться между бамперами, вскочить в другую машину, дать кругаля со скоростью пятьдесят миль в час на крохотном пятачке, быстро сдать назад в тесный тупичок,бум – захлопнуть дверцу с такой срочностью, что машина подпрыгнет, когда он из нее вылетает; затем рвануть к будке с кассой, словно звезда гаревых дорожек, выдать квитанцию, нырнуть в только что подъехавший автомобиль, не успеет владелец и выбраться из него, буквально проскочить у того под ногами, завестись с еще не закрытой дверцей и с ревом – к следующему свободному пятачку, разворот, чпок на место, тормоз, вылетел, ходу; работать вот так без передышки по восемь часов в ночь, вечерние часы пик и часы пик после театральных разъездов, в засаленных штанах с какого-то алкаша, в обтрепанной куртке на меху и разбитых хлопающих башмаках. Теперь он к возвращению купил себе новый костюм: синий в тончайшую полоску, жилет и все остальное – одиннадцать долларов на Третьей авеню, с часами и цепочкой, и портативную пишущую машинку, на которой собирался начать писать в каких-нибудь денверских меблирашках, как только найдет там работу. Мы устроили прощальную трапезу из сосисок с фасолью в «Райкере»[9] на Седьмой авеню, а потом Дин сел в автобус и с ревом унесся в ночь. Вот и уехал наш крикун. Я пообещал себе отправиться туда же, когда весна зацветет по-настоящему, а земля раскроется.
Вот так вообще-то и началось мое дорожное житье, и то, чему суждено было случиться, – такая фантастика, что не рассказать нельзя.
Да, и я хотел ближе узнать Дина не просто потому, что был писателем и нуждался в свежих впечатлениях, и не просто потому, что вся моя жизнь, вертевшаяся вокруг студгородка, достигла какого-то завершения цикла и сошла на нет, но потому, что неким манером, несмотря на несходство наших характеров, он напоминал мне какого-то давно потерянного братишку; при виде его страдающего костистого лица с длинными бачками и вспотевшей напряженной мускулистой шеи я невольно вспоминал свои мальчишеские годы на красильных свалках, в котлованах, заполненных водой, и на речных отмелях Патерсона и Пассаика. Его грязная роба льнула к нему так изящно, будто костюм лучше и у портного не закажешь, а можно лишь заработать его у Прирожденного Портного Врожденной Радости, как этого своими напрягами и добился Дин. А в его возбужденной манере говорить я вновь слышал голоса старых соратников и братьев под мостом, среди мотоциклов, в соседских дворах, расчерченных бельевыми веревками, и на дремотных крылечках дня, где мальчишки тренькают на гитарах, пока их старшие братья вкалывают на фабриках. Все остальные нынешние мои друзья были «интеллектуалы»: антрополог-ницшеанец Чад, Карло Маркс с его прибабахнутыми сюрреальными всерьез пристальными разговорами вполголоса, Старый Бык Ли с этакой критической анти-что-угодно растяжечкой в голосе, – или же были они украдчивыми беззаконниками типа Элмера Гасселя с этой его хиповой усмешечкой или же типа Джейн Ли, когда та раскидывалась на восточном покрывале своей оттоманки, фыркая в«Ньюйоркец»[10]. Но разумность Дина была до последней чуточки дисциплинированной, сияющей и завершенной, без этой вот занудной интеллектуальности. А «беззаконность» его была не того сорта, когда злятся или фыркают; она была диким выплеском американской радости, согласной на все; была она западной, западным ветром, одой с Равнин, чем-то новым, давно предсказанным, давно уж подступающим (он угонял машины, только чтобы прокатиться удовольствия ради). А кроме этого, все мои нью-йоркские друзья находились в том кошмарном отрицании, когда общество осуждают и для этого приводят свои выдохшиеся доводы, вычитанные в книжках, политические или психоаналитические, а вот Дин просто носился по обществу, жадный до хлеба и любви; ему было, в общем, всегда плевать на то или сё, «лишь бы заполучить себе вон ту девчоночку с этим махоньким кой-чем у ней между ножек, пацан», и «лишь бы нам перепадало пожрать, сынок, слышь? я проголодался, жрать хочу, пошли сейчас же пожрем!» – и вот мы уже несемся жрать, о чем и глаголил Екклезиаст: «Се доля ваша под солнцем»[11].
Западный родич солнца, Дин. Хотя тетка предупредила, что он меня до добра не доведет, я уже слышал новый зов и видел новые дали – и верил в них, ибо юн был; и чуточка этого недобра, и даже то, что Дин отверг меня потом как своего кореша, а затем и вообще вытирал об меня ноги на голодных мостовых и больничных койках – так какая разница? Я был молодым писателем, и мне хотелось стронуться с места.
Где-то на этом пути, я знал, будут девчонки, виде́ния – все будет; где-то на этом пути вручат мне жемчужину.
2
В июле месяце 1947 года, скопив около полусотни долларов из старых ветеранских льгот, я был готов ехать на Западное побережье. Мой друг Реми Бонкёр написал из Сан-Франциско письмо, в котором говорил, что мне надо приехать и уйти с ним в море на кругосветном лайнере. Клялся, что протащит меня в машинное отделение. Я ответил, что мне хватит любого старого сухогруза, если только можно сделать несколько долгих тихоокеанских рейсов и вернуться, заработав столько, чтобы хватило на жизнь у тетки в доме, пока не закончу книгу. Он написал, что у него есть хибара в Милл-Сити и у меня будет бездна времени, чтобы там писать, пока будем заниматься всякой волокитой с устройством на судно. Сам он живет с девчонкой по имени Ли-Энн; та дескать великолепно готовит, и все будет ништяк. Реми был моим старым другом по приготовительной школе: француз, которого воспитали в Париже, и по-настоящему сумасшедший – я тогда просто еще не знал насколько. И вот, значит, он ждал, что я приеду к нему через десять дней. Тетка была совершенно не против моей поездки на Запад; сказала, что это принесет мне пользу, всю зиму я так усердно работал и почти не выходил на улицу; она даже не возражала, когда я сказал, что часть пути проделаю на попутках. Тетка лишь пожелала мне вернуться домой в целости и сохранности. И вот, оставив на письменном столе объемистую половину рукописи и в последний раз свернув уютные домашние простыни, однажды утром я вышел из дому с холщовой сумкой, куда улеглись мои немногие основные пожитки, и взял курс к Тихому океану с полусотней долларов в кармане.
В Патерсоне месяцами я сидел над картами Соединенных Штатов, даже читал какие-то книжки о первопроходцах и смаковал такие названия, как Платт, Симаррон и так далее, а на карте дорог имелась одна длинная красная линия под названием «Трасса № 6», что вела с кончика Кейп-Кода прямиком в Илай, Невада, а оттуда ныряла к Лос-Анджелесу. Просто-напросто не буду никуда сворачивать с «шестерки» до самого Илая, сказал я себе и уверенно пустился в путь. Чтобы выйти на трассу, мне предстояло подняться до Медвежьей горы. Полный мечтаний о том, что стану делать в Чикаго, Денвере и наконец в Сан-Фране, я сел на Седьмой авеню в подземку до конечной станции на 242-й улице, а оттуда трамваем поехал в Йонкерс; там в центре пересел на другой трамвай и доехал до городской окраины на восточном берегу Гудзона. Если случится вам опустить цветок розы в воды Гудзона у его таинственных истоков в Адирондаках, подумайте о тех местах, мимо которых плывет он на пути вечно к морю, – подумайте об этой чудесной долине Гудзона. Я начал стопарить к ее верховьям. За пять разрозненных перегонов я очутился у искомого моста Медвежьей горы, куда из Новой Англии сворачивала трасса № 6. Когда меня там высадили, хлынул дождь. Горы. Трасса № 6 шла из-за реки, миновала круговую развязку и терялась в глухомани. По ней не только никто не ехал, но и дождь припустил как из ведра, а спрятаться негде. В поисках укрытия пришлось забежать под какие-то сосны, но не помогло; я начал плакать, материться и колотить себя по башке за то, что такой чертов дурень. Я в сорока милях к северу от Нью-Йорка; пока добирался сюда, меня грызла мысль, что в этот знаменательный первый день я все двигаюсь на север, а не на столь желанный запад. И вот еще и застрял на этом северном зависе. С четверть мили я пробежал до прелестной заброшенной бензоколонки в английском стиле и остановился под каплющими свесами. В вышине над головой огромная шерстистая Медвежья гора метала вниз раскаты грома, вселяя в меня страх Господень. До самых небес видны лишь дымчатые деревья да гнетущее безлюдье. «И чего, к чертям собачьим, мне тут понадобилось? – ругался я, плакал и хотел в Чикаго. – Вот сейчас у них там как раз клево, что-то делают, а я тут, и когда ж я до них доберусь…» – и так далее. Наконец у пустой заправки остановилась машина; мужчина и две женщины в ней хотели получше рассмотреть карту. Я вышел под дождь и замахал рукой; те посовещались: конечно, я смахивал на какого-то маньяка с мокрыми насквозь волосами, в хлюпающих ботинках. Ботинки мои – ну что я за придурок, а? – были такими растительными с виду мексиканскимигуарачами[12] – сито, а не башмаки, совершенно не годятся ни для ночных дождей в Америке, ни для грубых ночных дорог. Но эти люди впустили меня к себе и отвезли на север в Ньюбург, что я принял как гораздо лучший вариант, нежели засесть в глуши под Медвежьей горой на всю ночь.
– А кроме того, – сказал мужчина, – по шестерке тут нет никакого движения. Если хочешь попасть в Чикаго, лучше проехать в Нью-Йорке по тоннелю Холланда и двинуться в сторону Питтсбурга, – и я понял, что он прав. Такова моя скисшая мечта: сидя дома у камина глупо воображать, как замечательно будет проехать через всю Америку по единственной великой красной линии, а не пробовать разные дороги и трассы.
В Ньюбурге дождь кончился. Я дошел до реки и пришлось возвращаться в Нью-Йорк на автобусе с делегацией школьных учительниц, ехавших с пикника в горах: одно бесконечное ля-ля-ля языками; а я матерился, жалея времени и денег, какие профукал, и говорил себе: вот, хотел поехать на запад, а вместо этого весь день и еще полночи катался вверх-вниз, с юга на север и обратно, как будто не можешь завестись. И поклялся себе, что завтра же буду в Чикаго, а для этого взял билет на чикагский автобус, истратив почти все свои деньги, да и плевать, лишь бы завтра же оказаться в Чикаго.
3
То была совершенно обычная поездка в автобусе с орущими детьми и жарким солнцем, народ подсаживался в каждом пенсильванском городке, пока не выехали на равнину Огайо и не покатили вперед по-настоящему – вверх до Аштабулы и напрямик через Индиану уже ночью. Я приехал в Чи ни свет ни заря, вписался в общагу «Молодых христиан»[13] и завалился спать, а долларов в кармане оставалось совсем ничего. Врубаться в Чикаго я начал после хорошего дневного сна.
Ветер с озера Мичиган, боп на Петле[14], долгие прогулки по Южному Голстеду и Северному Кларку и одна, особенно долгая – за полночь в джунгли, где за мной увязалась патрульная машина, решив, что тип я подозрительный. В то время, в 1947-м, боп, как бешеный, захватил всю Америку. Мужики на Петле лабали ништяк, но как-то устало, поскольку боп попал как раз куда-то между «Орнитологией» Чарли Паркера и другим периодом, начинавшимся с Майлса Девиса [15]. И пока сидел я и слушал звучание ночи, которую боп стал олицетворять для каждого из нас, я думал обо всех своих друзьях от одного конца страны до другого и о том, что все они на самом деле – на всеобщих громадных задворках: что-то делают, носятся. И вот, впервые в своей жизни, назавтра я отправился к Западу. Стоял теплый и чудный для автостопа день. Чтоб выбраться из невероятных нагромождений чикагского уличного движения, автобусом поехал в Джолиет, Иллинойс, миновал джолиетскую кичу [16], после прогулки по тряским зеленым улочкам за нею вышел на окраину и там уже навострился. А то всю дорогу от Нью-Йорка до Джолиета автобусом, а денег спустил больше половины.