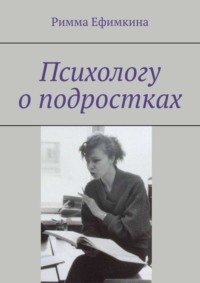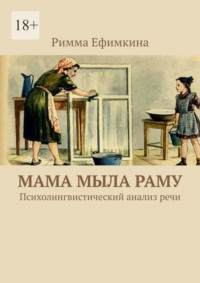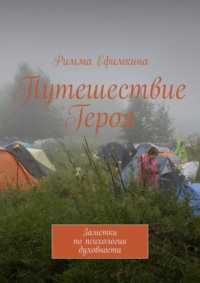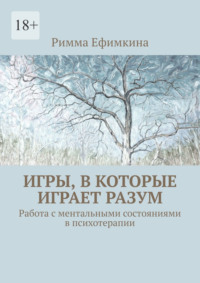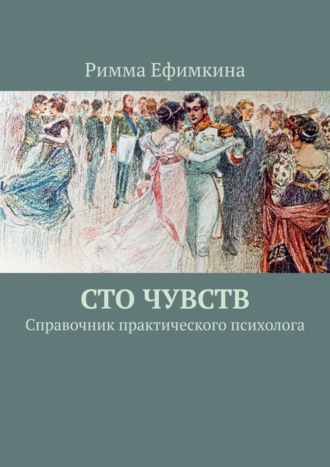
Полная версия
Сто чувств. Справочник практического психолога
«Спасалась от действительности в мире безумия»
Из всех сцен самая горестная та, что описывает потерю матерью сына: графиня Ростова узнает, что ее пятнадцатилетний любимец Петя убит на войне. Но писателю этого мало – он усиливает сцену тем, что вводит в нее Наташу, которая сама в глубоком трауре по жениху Андрею Болконскому.
Симптомы горя подробно описаны в психологической литературе, многим они знакомы по собственному опыту. К физическим симптомам относятся затруднения дыхания, спазмы в горле, учащенное дыхание, сердцебиение и т. д. Душевное страдание как правило проявляется в чувстве вины, поглощенности образом умершего, враждебных и агрессивных реакциях, утрате естественных моделей поведения, отгороженности от окружающих и др. Этот сухой список оживает под пером великого писателя, точнейшим образом передавшего горе художественными средствами.
Эта ярко и страшно написанная сцена передает горе в его начальной фазе, фазе шока и оцепенения, когда человек только узнает печальное известие. В сознании появляется ощущение нереальности происходящего, душевное онемение, бесчувственность, оглушенность. Притуплено восприятие внешней реальности, наблюдаются провалы в памяти, иногда выплески злости. Человек психологически стремится уйти из настоящего в «до», где все было по-прежнему.
«Заживает изнутри выпирающей силой жизни»
Дальше следует долгий период восстановления.
Несмотря на общие закономерности, восстановление после потери и проживание горя проходит по-разному в зависимости от культурных норм, возраста человека, наличия времени и возможности переживать. Так, горевание Наташи Ростовой, потерявшей жениха Андрея Болконского, было резко прервано смертью брата Пети и горем матери. Забыв себя и свое горе, она бросается спасать мать.
Лев Толстой сравнивает духовную рану с физической. Та и другая зарастают изнутри «выпирающей силой жизни». Сила жизни Наташи – любовь; пока жива любовь – жизнь продолжается.
«Вызвана жизнью из мира печали»
По-другому переживает горе княжна Марья. Сначала похоронив отца, она должна была оторваться от проживания траура и отправиться в путь сначала из зоны военных действий в безопасное место, а затем к умирающему брату Андрею Болконскому в Ярославль. После смерти брата княжна снова не могла полностью отдаться чувствам из-за бытовых причин.
«Оторвала половину ее жизни»
Однако и Наташа, и Мари в отличие от старой графини – молодые женщины, у которых еще много всего предстоит в жизни – обе выйдут замуж и нарожают детей. У графини больше нет такой возможности, ее горе не исцелится никогда.
В эпилоге Лев Толстой описывает жизнь графини – по современным меркам не старой женщины. Ей удается перестать горевать и прийти к спокойствию, но только единственным способом – убив все чувства.
Работа с горем в психотерапии
Существует несколько моделей работы с горем в психотерапии, но так или иначе все они сводятся к сопровождению клиента по фазам горя. Так, например, психолог Эрих Линдеманн выделил 4 стадии переживания утраты: 1) шок, 2) протест, 3) дезорганизация и страдание, 4) отделение и реорганизация. Наша культура отводит время на траур один год, однако у каждого человека индивидуальный опыт скорби. Тем не менее психолог в своей работе ориентируется на универсальные показатели, и если горе за год не переходит в принятие, это может означать, что клиент «застрял» на одной из фаз, подавив горевание. Участие психотерапевта может способствовать облегчению выражения клиентом внутренних переживаний. Конечная задача психотерапии в том, чтобы образ утраты клиента занял свое постоянное место.
Работа с процессом горевания требует специфических навыков от специалиста. Поскольку на этапе проживания клиентом боли нужно поощрять слезы, крик и другие проявления эмоций, а не прерывать их, то важно, чтобы психотерапевт не боялся этих переживаний, а был рядом и сопереживал. Принимая решение о начале работы с горюющим клиентом, психотерапевту следует соотнести степень тяжести данного конкретного случая с собственной эмоциональной готовностью иметь дело с такими переживаниями.
«Когда она [Наташа] вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо.
– Пе… Петя… Поди, поди, она… она… зовет… – И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками. <…>
Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она <…> быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери.
Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки.
– Наташу, Наташу!.. – кричала графиня. – Неправда, неправда… Он лжет… Наташу! – кричала она, отталкивая от себя окружающих. – Подите прочь все, неправда! Убили!.. ха-ха-ха-ха!.. неправда!
Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.
– Маменька!.. голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, – шептала она ей, не замолкая ни на секунду.
Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери.
– Друг мой, голубушка… маменька, душенька, – не переставая шептала она, целуя ее в голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.
Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.
– Наташа, ты меня любишь, – сказала она тихим, доверчивым шепотом. – Наташа, ты не обманешь меня? Ты мне скажешь всю правду?
Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви.
– Друг мой, маменька, – повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.
И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия.
Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила.
– Как я рада, что ты приехал. Ты устал, хочешь чаю? – Наташа подошла к ней. – Ты похорошел и возмужал, – продолжала графиня, взяв дочь за руку.
– Маменька, что вы говорите!..
– Наташа, его нет, нет больше! – И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать» (Т. 4. Ч. 4. Гл. II. С. 501).
«Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, – говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню» (Т. 4. Ч. 4. Гл. III. С. 503).
«Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней» (Т. 4. Ч. 4. Гл. II. С. 501).
«Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни.
Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни.
Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни – любовь – еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь». <…>
Она не знала этого, не поверила бы, но под казавшимся ей непроницаемым слоем ила, застлавшим ее душу, уже пробивались тонкие, нежные молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее ее горе, что его скоро будет не видно и не заметно. Рана заживала изнутри» (Т. 4. Ч. 4. Гл. III. С. 503).
«Княжна Марья, по своему положению одной независимой хозяйки своей судьбы, опекунши и воспитательницы племянника, первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она получила письма от родных, на которые надо было отвечать; комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатыч приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву в Вздвиженский дом, который остался цел и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить. Как ни тяжело было княжне Марье выйти из того мира уединенного созерцания, в котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совестно было покинуть Наташу одну, – заботы жизни требовали ее участия, и она невольно отдалась им. Она поверяла счеты с Алпатычем, советовалась с Десалем о племяннике и делала распоряжения и приготовления для своего переезда в Москву» (Т. 4. Ч. 4. Гл. I. С. 499).
«Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни – старухой» (Т. 4. Ч. 4. Гл. III. С. 503).
«Графине было уже за шестьдесят лет. Она была совсем седа и носила чепчик, обхватывавший все лицо рюшем. Лицо ее было сморщено, верхняя губа ушла, и глаза были тусклы.
После так быстро последовавших одна за другой смертей сына и мужа она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия, и спокойствие это она могла найти только в смерти. Но пока смерть еще не приходила, ей надо было жить, то есть употреблять свое время, свои силы жизни» (Эпилог. Ч. 1. Гл. XII. С. 590).
24. Горечь
Слово «горечь» образовано от прилагательного «горький», которое в свою очередь связано с глаголом «гореть», а первоначальное значение этих слов – «горячий», «обжигающий». Горький буквально – «такой, который жжет».
Синонимы к слову горечь: сожаление, горе, печаль. Если говорить не о вкусе, а о чувстве, то имеется в виду психическое состояние, обусловленное переживаниями утраты и сопровождающееся снижением интереса к внешнему миру, погруженностью в себя и поглощенностью воспоминаниями, вызывающими неприятный осадок.
Лев Толстой блистательно передает это состояние своего героя Андрея Болконского, прямо не называя его чувство горечи словом, но используя художественные приемы, не оставляющие разночтений. Он пишет, что князь Андрей вскочил, «как будто кто-нибудь обжег его», указывая на главное качество горечи – жжение. Это состояние Андрей переживает перед смертельной битвой, понимая, что, возможно, он завтра погибнет, и тогда становится особенно горько от сознания утраченных возможностей, не пережитой радости и счастья.
Работа с горечью в психотерапии
Что можно сделать с подобным запросом, если бы к вам обратился клиент? Работа бы заключалась в принятии правды. Народ заготовил терапевтический механизм в виде хорошо известной пословицы: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Сладкая ложь Андрея Болконского заключалась в искусственном оживлении и притворном спокойствии, с которыми он принял известие об отказе невесты и которыми он смог обмануть даже отца, сестру и Пьера.
Но перед лицом смертельной опасности редкий человек способен обманывать сам себя. Именно мужество, с которым князь Андрей признается сам себе в любви к Наташе, вознаграждается тем, что они встретились и успели объясниться. Разумеется, мы не создаем намеренно на терапевтической сессии ситуацию околосмертного опыта. Однако как правило клиент приходит в психотерапию, когда он уже более не способен переносить горечь утраты и внутренне готов оплакать свою потерю, после чего ему станет значительно легче.
Горечь – многозначное слово
Иногда в психотерапевтическом процессе клиент физически ощущает горечь во рту в буквальном смысле. Это бывает, когда человек не способен отслеживать эмоциональные реакции. Психотерапевту полезно помнить, что слово «горечь» многозначное, в поэзии часто используются эти параллели между физическим и эмоциональным: «Сладку ягоду рвали вместе – горьку ягоду я одна». Работая с психосоматическим симптомом (горечью во рту), психотерапевту нужно проверить, не переживает ли клиент в этот момент своей жизни утрату, потерю, не носит ли в себе тяжелое воспоминание. 35
«Князь Андрей, вернувшись в сарай, лег на ковер, но не мог спать. Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго, радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником, которого она встретила, и, всякую минуту прерываясь в своем рассказе, говорила: «Нет, не могу, я не так рассказываю; нет, вы не понимаете», – несмотря на то, что князь Андрей успокоивал ее, говоря, что он понимает, и действительно понимал все, что она хотела сказать. Наташа была недовольна своими словами, – она чувствовала, что не выходило то страстно-поэтическое ощущение, которое она испытала в этот день и которое она хотела выворотить наружу. «Это такая прелесть был этот старик, и темно так в лесу… и такие добрые у него… нет, я не умею рассказать», – говорила она, краснея и волнуясь. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза. «Я понимал ее, – думал князь Андрей. – Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней… так сильно, так счастливо любил…» И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. (Анатолю) ничего этого не нужно было. ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и девочку, с которою он не удостоил связать свою судьбу. А я? И до сих пор он жив и весел». «Ему
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Ефимкина Р. П. В переводе с марсианского: Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании и психотерапии. – СПб.: Речь, 2006.
2
Ефимкина Р. П. Косяки начинающих психоконсультантов. М.: Независимая фирма «Класс», 2017.
3
Ссылки приводятся по изданию: Толстой Л. Н. Война и мир: Роман в 4-х т. – М.: Художественная литература, 1983.
4
мой паж.
5
синим чулком.
6
Вы запускаетесь, мой милый.
7
Помни о смерти (лат.).
8
настоящий.
9
Ах, Андрей! Какое сокровище твоя жена.
10
Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить. – Минск: Попурри, 2015.
11
Что делать, женщины, мой друг, женщины!
12
Порядочные женщины… женщины Курагина, женщины и вино.
13
Битва при А́устерлице (20 ноября () ) – решающее сражение наполеоновской армии против армий . Вошло в историю как «битва трёх императоров», поскольку против армии императора сражались армии императоров австрийского и русского . Сражение закончилось разгромом союзных армий. 2 декабря 1805 год третьей антифранцузской коалиции Наполеона I Франца II Александра I
14
И, любезный генерал! Я занят рисом и котлетами, а вы занимайтесь военными делами.
15
человек с большими достоинствами.
16
История 1812 года Богдановича: характеристика Кутузова и рассуждение о неудовлетворительности результатов Красненских сражений. (Цит. по: Т. 4. Ч. 4. Гл. V. С. 508).
17
великих людей.
18
поддаваться этой мелочности!
19
Подробнее см.: Норвуд. Р. Женщины, которые любят слишком сильно. – М.: Добрая книга, 2010.
20
Маслоу А. . – СПб.: Питер, 2019. Мотивация и личность
21
Хеллингер Б. Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфликтов и противоречий. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001.
22
Там же.
23
О моя жестокая любовь… (итал.)
24
Все это прекрасно, но всему должен быть конец.
25
надо, надо положить конец.
26
Хеллингер Б. Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфликтов и противоречий. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. С. 118.
27
Он без ума, ну истинно без ума влюблен в вас.
28
Ну, а вы остаетесь, в чем были? Сейчас придут сказать, что они вышли. Надо будет идти вниз, а вы хоть бы чуть-чуть принарядились!
29
Нет, оставьте меня.
30
Оставьте меня, мне все равно.
31
Ах, я думала, вы у себя.
32
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – СПб.: Лениздат, 1992. С. 106.
33
моя бедная мать.
34
по следам этого господина.
35
Р. Рождественский.