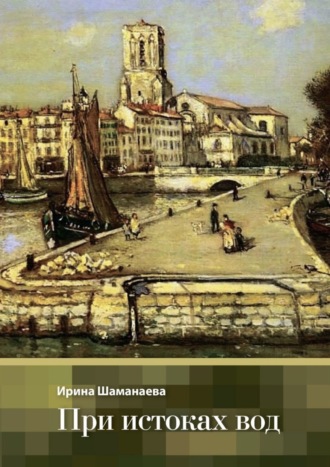
Полная версия
При истоках вод
– Мама?
– Что, Фредерик?
– Я поеду учиться в школу в Потсдам и буду жить у дедушки Картена?
– Посмотрим. – Она даже не удивилась его осведомленности. – А ты хотел бы?
– Я бы хотел жить у дяди Райнера и тети Адели, – осмелел мальчик, – но если у них нельзя, то ладно, можно и у дедушки.
– Есть ведь еще дедушка и бабушка Шендельсы, – возразила мать. – И довольно на сегодня разговоров. Это будем решать мы с папой, а не ты. Спи, и смотри, не вздумай опоздать утром к завтраку.
Уже спускаясь по лестнице, она вспомнила, что не благословила сына. Торопливо зашептала молитву, стараясь настойчивостью искупить в глазах Бога свое небрежение. В руках у нее было платье Мюриэль с пятном от шоколада на лифе и с рукавами, испачканными соком одуванчика. Надо оставить его в прачечной и завтра подумать, чем вывести эти пятна… А тут еще Жан-Мишель со своими разговорами не ко времени. Он ее ждет, под дверями его комнаты на пороге лежит пятно света от лампы, сливочно-желтое, как здешняя галета. Фритци очень любит шарантские галеты. Надо бы купить пару фунтов, сложить в жестяную коробку и завтра же послать матери в Потсдам…
Жан-Мишель Декарт весь вечер расхаживал взад и вперед по кабинету. Только перед приходом жены он чуть-чуть успокоился и сел за стол. Отодвинул лист с тезисами будущей проповеди, план доклада, который он прочтет в следующую пятницу на заседании Библейского общества Ла-Рошели, опись коллекции жесткокрылых и полужесткокрылых насекомых, собранную одним любителем на юго-западе Нижней Шаранты, где нужно было проверить всю атрибуцию перед помещением в музей, и бережно положил сверху отчет Флерио де Бельвю префекту департамента о падении метеорита в Жонзаке. Этот документ он взял в префектуре на несколько дней, чтобы прочитать ради интереса. Метеорит упал давно, еще в 1819 году, то есть ровно двадцать лет назад, но свою коллекцию минералов, в которой были и осколки упавшего небесного тела, Флерио в начале года как раз подарил музею. Далекий от геологии пастор Декарт на том историческом заседании Общества естественной истории Нижней Шаранты с большим интересом разглядывал эти образцы, смотрел вместе с Флерио под микроскопом на кусочки оплавившейся поверхности метеорита и выслушивал объяснения старшего товарища и наставника о том, что она состоит из спекшихся кристаллов и является таким же продуктом действия огня, что и большинство земных минералов магматического происхождения. Префект Жан-Луи Адмиро позволил пастору взять домой отчет Флерио де Бельвю с величайшими предосторожностями, заклиная не потерять ни листочка – он представлял большую ценность.
Но даже этот документ не смог надолго удержать внимание пастора Декарта. Настроения заниматься делами у него не было, особенно после происшествия на свадебном ужине. Жан-Мишель взял в руки сегодняшнее «Эхо Ла-Рошели» и порадовался, когда вспомнил, что утром в суете забыл его прочитать. Но не успел он углубиться в хронику городских происшествий, как дверь скрипнула и на пороге появилась Амели в халате и мягких домашних туфлях.
– Ну, что ты хотел мне сказать? – сварливо заговорила она. – Давай скорее. Я только что уложила детей, а мне еще нужно приготовить им белье и одежду на завтра.
– Сядь, Амели. Это разговор не на пять минут.
Мадам Декарт нехотя прошла в кабинет и опустилась в глубокое кресло напротив рамки с тропической бабочкой.
– Я, конечно, тоже виноват, – сказал Жан-Мишель. – И наверное, не должен тебя упрекать за то, что ты воспитывала наших детей, как тебе одной казалось правильным. Но мы с тобой совершили ошибку, надо это признать и подумать, как ее исправить.
– Может быть, ты мне объяснишь, в чем моя ошибка? – тут же взвилась Амели.
– Ладно, можешь думать, что я совершил ошибку, если тебе так больше нравится. Только сути дела это не меняет. Фредерик должен учиться в Ла-Рошели. У меня всего полгода, чтобы подготовить его к начальной школе. Сам буду с ним заниматься, если не найду домашнего учителя, который не запросит слишком дорого. Но я тебе твердо обещаю, что ни Фред, ни Мюриэль не поедут в Потсдам.
– А почему бы Фредерику туда не поехать? Тебя послушать, так я собираюсь отправить сына не в просвещенный столичный европейский город, в котором – надеюсь, ты не забыл? – мы оба родились, а в преисподнюю к самому дьяволу!
– Потсдам не плох и не хорош, – ответил Жан-Мишель, – я даже допускаю, что школьное образование там поставлено лучше, чем во Франции. Но наши дети – французы, а не пруссаки, и будут учиться во французской школе, а потом Фредерик пойдет во французский лицей и, надеюсь, в университет. Я выбрал эту судьбу для себя и для своих будущих детей, когда решил, что навсегда останусь во Франции. И напомню, моя дорогая, что ты тоже согласилась на все это, ответив мне «да».
Амели почувствовала, что к горлу подступает тягучий ком. Это была не первая их с Жаном-Мишелем ссора, но раньше она всегда отмалчивалась. Ее недовольство выдавали только неподвижные губы и пришедшие в движение брови. В жонглировании аргументами Жан-Мишель все равно легко бы ее победил, а плакать перед ним было слишком унизительно. Она точно знала, что если не совладает с собой и вместе со слезами у нее вырвется упрек «Ты меня не любишь!», муж не скажет прямо, что да, не любит, но и не станет это опровергать… Однако сегодня Амели чувствовала себя доведенной до черты. Разговор обещал быть тягостным, но вечная ложь и недомолвки были еще хуже.
– Ты меня обманул, – сказала она, стараясь если не быть, то хотя бы казаться такой же невозмутимой, как и Жан-Мишель. – Я думала, что выхожу замуж за пастора реформатского прихода Ла-Рошели, и готовилась стать тебе надежной и верной помощницей. А когда приехала сюда, оказалось, что я вышла за охотника за кузнечиками и жуками. За человека, который носит пасторский коллар, но при этом не стесняется прямо в нем прилюдно ползать на коленках в траве под кустами, будто какой-нибудь студент, и набивать карманы коробками с этой мерзостью! Ты даже не смог сдержать обещания, что ни одна шестиногая тварь не выползет из твоего кабинета. Помнишь, я собрала свои вещи после того, как обнаружила в постели огромного отвратительного жука, которого ты плохо усыпил!
– И что же тебя остановило? – он смотрел на нее с усталой иронией.
– Ты прекрасно знаешь, что. – Амели досадовала на себя, что вообще упомянула жуков – теперь разговор мог пойти не туда, куда нужно. – Мюриэль только что родилась.
– Я попросил у тебя прощения за тот случай, и это больше не повторилось. И если уж мы начали упрекать друг друга в небрежении обязанностями… Мадам Сеньетт недавно столкнулась со мной в мэрии и спросила, здоровы ли наши дети. Я немного удивился, но ответил, что да. Тогда она сказала, что Общество протестантских дам-благотворительниц обеспокоено, почему ты с января не появляешься на заседаниях, и они с мадам Расто не могут предположить, какая еще благовидная причина задерживает тебя дома.
– Ох уж эта мадам Сеньетт! Терпеть не могу эту злобную старую ведьму. Хуже только ее дочь Мари-Сюзанна, которая даже не скрывает, что считает меня ничтожеством и что ты совершил ужасную ошибку, женившись на мне.
– Амели!!!
– А что, неправда? Старая мадам Адмиро, супруга префекта, еще в первый год после нашей свадьбы проговорилась, что вся община была уверена в твоем скором сватовстве к Мари-Сюзанне Сеньетт. Не удивительно, что я для них чужачка и они меня ненавидят, даже если сказать это вслух ни у кого не хватает смелости.
– Уверен, что ты заблуждаешься, Амели. Ты просто предубеждена и наслушалась сплетен.
– Я ведь пыталась быть полезной… – Голос Амели затрепетал. – Сразу после того как мы сюда приехали, помнишь, я испекла немецкое печенье трех сортов, хотела угостить дам из комитета. А они сказали, что между обедом и ужином ничего не едят, и к моему угощению даже не притронулись. Только мадам Рансон из любезности съела кусочек и похвалила. Все остальное так и пролежало до конца заседания, и мадам Адмиро, уходя, предложила мне отнести это в больницу для бедняков.
– Наверное, это было досадно, – согласился Жан-Мишель. – Но нужно понимать, что здесь у людей другие привычки и вкусы, не такие, как в Потсдаме. Спросила бы сначала у меня, стоит ли угощать этих дам печеньем, я бы тебе отсоветовал.
– А потом, когда я хотела устроить благотворительный музыкальный вечер в свой первый Сильвестр в Ла-Рошели? Меня никто не поддержал, даже мадам Рансон, хотя она добрее и приветливее остальных и немного говорит по-немецки! Мадам Адмиро – та вообще сказала, что музыки нам достаточно в церкви, а в день Сильвестра лучше устроить еще одну рождественскую распродажу всякого старья, чтобы заработать денег на содержание протестантского госпиталя.
– Этот город возник и расцвел благодаря торговле, считать деньги здесь умеют хорошо. Мадам Адмиро, мадам Рансон, мадам Расто – все они жены, сестры и дочери крупных судовладельцев, их с детства учили вести деловую переписку и разбираться в бухгалтерии. Они не так разносторонне образованы и, может быть, не так сведущи в музыке, литературе и изящных искусствах, как некоторые наши потсдамские знакомые. Но в практических вещах их суждениям стоит доверять. Я думал, ты это понимаешь, ты ведь тоже дочь коммерсанта.
Амели поморщилась. Жан-Мишель считал своего тестя, господина Шендельса, таким же коммерсантом, как здешние торговцы рыбой, солью и вином, но сама она рассматривала ремесло отца как гораздо более благородное, в ее глазах он был ближе к медицине, чем к торговле. И вообще ей надоела эта игра в адвоката дьявола.
– А ты ни разу меня не поддержал! – Она перешла в наступление. – Помнишь, однажды я вызвалась заменить органиста, когда господин Дельмас сломал себе руку, не на все время, а только пока он не вылечится. Но ты заявил, что не женское это дело – играть в церкви на органе или на фисгармонии! Сегодня я сама не стала предлагать свою помощь на свадьбе Жюстины, знала, что ты все равно откажешь. Хотя ты прекрасно знаешь, что в Потсдаме есть женщины-органистки и что я умею играть. Даже твой отец позволял мне иногда музицировать в церкви вместо нашего органиста, и его не страшило, что за инструментом сидит молодая девушка. А ты вдруг испугался, что подумают твои прихожане, если гимны им будет играть твоя собственная жена!
– Но пойми же, Амели! – простонал Жан-Мишель. – Потсдам – это одно, а Ла-Рошель – это совсем другое. Здесь другие люди, другие обычаи. Порядки здесь отличаются от тех, к которым ты привыкла.
– Это очень странные порядки. Я думала, что знаю, каково это – быть женой пастора. Но оказалось, все, что я умею делать хорошо, никому здесь не нужно. И тебе в первую очередь! Я чувствую себя как актриса, которую зачем-то взяли в спектакль, а роли не дали, и уйти она не может, и ей остается только бессмысленно ходить по сцене, путаться под ногами и всем мешать!
– Ты считаешь, я в этом виноват?
– Ты-то, конечно, думаешь, что виновата я! Но если бы ты вел себя более по-пасторски, то и меня уважали бы гораздо больше.
– Мою мать уважали не потому, что ее муж вел себя по-пасторски, а потому что она поддерживала основанную ее отцом, профессором Сарториусом, школу для девочек в Потсдаме. Она помогала этой школе деньгами и личным участием почти до последнего дня, до того, как окончательно слегла! Если ты этого не понимаешь, значит, ты действительно не способна видеть дальше своего носа. Девять лет назад ты уехала из Потсдама и до сих пор носишь его на себе и в себе, до сих пор не можешь от него освободиться, как улитка от своей раковины!
– А ты не можешь и двух фраз произнести, чтобы не вспомнить или своих друзей-натуралистов, или свою драгоценную матушку!
– Амели, замолчи. Не говори такого, о чем потом пожалеешь.
Часы в гостиной пробили полночь. Мадам Декарт поднялась и пошла к двери.
– Тогда я иду спать. Но сначала я еще кое-что скажу тебе, Жан-Мишель. Иногда мне кажется, что мир перевернулся, и я одна стою на ногах, пока все остальные вокруг меня ходят на головах и делают вид, что так и надо, и еще потешаются надо мной – как это я смею оставаться на ногах, почему не переворачиваюсь вместе со всеми на голову! Меня учили думать, что семья, родина, религия – это самые главные вещи на свете, и я была уверена, когда выходила замуж, что и ты так думаешь. Но что я увидела в твоем окружении в Ла-Рошели? Семья? Тебе она только мешает, не дает полностью отдаться твоим мухам и жукам. Ты едва замечаешь и меня, и детей. Честнее было бы поступить так, как твой боготворимый Флерио де Бельвю, и вообще не жениться. Видишь, кое в чем я готова отдать ему должное. Родина? О, да, ты страстно любишь родину, любишь ее всей душой, – но почему-то не свою, а чужую! Если бы тебе сказали: «Забудь свой родной язык, вымарай из своей метрики настоящее место рождения, и тогда ты станешь настоящим французом», – ты бы это сделал без малейшего угрызения совести. Религия? Я еще никогда не встречала разом столько безбожников, которые пунктуально исполняют все обряды и предписания, а потом выходят из церкви и отправляются на заседание научного общества, чтобы и все вместе хором, и каждый по отдельности опровергать существование Бога. И когда я пытаюсь при тебе назвать все-таки белое – белым, а черное – черным, ты тут же меня обрываешь и говоришь: «Да нет же, глупая женщина, белое – это черное, а черное – это белое!» Я боюсь, Жан-Мишель, что скоро сойду с ума. Но я поклялась быть с тобой в болезни и здравии. Если бы клятва перед алтарем для меня ничего не значила, я бы давно уехала в Потсдам и стала помогать родителям в аптеке. От Карла-Антона толку все равно нет.
Пастор смотрел на свою жену с возрастающим удивлением. Он вышел из-за стола и приблизился к Амели. Она раскраснелась, губы пересохли, пальцы беспокойно теребили кисти пояса ее шелкового халата.
– Амели…
– Жан-Мишель, мы еще никогда не были так откровенны. Заклинаю тебя, позволь Фредерику учиться в Потсдаме. У меня сердце разрывается от мысли, что я расстанусь с ним на несколько лет и буду видеть его только во время каникул, но я готова пойти на это ради его будущего. Не заставляй его ломать голову, когда он вырастет, над тем, француз он или немец.
– У него как раз не будет сомнений, кто он такой, если он останется в Ла-Рошели.
Пастор Декарт положил руки ей на плечи. Когда Амели не вела себя как образцовая немецкая женушка и не рвалась перебелять его проповеди и греть его ночные туфли, она ему нравилась. От девушек, разбирающихся только в кулинарных рецептах и рукоделии и способных довести мужчину до нервного тика своей преданной заботой, он в свое время сбежал во Францию, и чуть не возненавидел Амели, когда понял, что ein gutes Mädchen все равно его настигла. Но порой, как сейчас, она с ним спорила и тогда становилась ему интересна. Он чувствовал в ней сильный характер и острый злой ум, в такие минуты она была способна зажечь искру между ними. Он сомкнул руки за ее спиной и стал осыпать поцелуями ее щеку, шею, мочку уха, сжатые в суровую складку губы. И Амели дрогнула, сдалась, ответила на его поцелуи. Начиная этот спор, она заранее понимала, что снова проиграет. Но хотя бы она сказала мужу то, что давно нужно было сказать. А дальше пусть исполнится воля Божья. 8
– Свеча сейчас догорит… – прошептала мадам Декарт.
– Хватит, чтобы дойти до спальни, – тоже шепотом ответил Жан-Мишель.
Через полчаса они оторвались друг от друга, и усталая Амели подумала, как же ей не хочется вставать и возиться со спринцовкой. Ладно, может, ей повезет и ребенка и так не будет. А если будет, то это уже не станет настолько не ко времени, как ее беременность сыном, когда дочери едва исполнился год. Она смотрела на своего мужа, на его темный силуэт, который двигался между умывальником и гардеробной, с новой, непонятной тоской. Никогда еще ее чувства к нему не были такими смешанными: немного любви, немного жалости, немного презрения. И полное, лишенное всяких иллюзий понимание, что ей стоит надеяться только на себя и на Бога, больше не на кого. А пастор Декарт поспешил закрепить свое священное право поставить точку в сегодняшнем споре с женой и сказал из темноты спальни:
– Леопольд Делайян как раз на днях говорил мне о некоем Блондо, бывшем учителе французского языка и литературы из Королевского коллежа Ла-Рошели. Он безработный с рождественских каникул – по слухам, директор его уволил за то, что он злоупотреблял вином. Теперь Блондо ищет работу и уже согласен на половину прежнего жалованья. Раз ты тоже понимаешь, что Фредерик должен пойти в школу в Ла-Рошели, Леопольд сведет меня с Блондо. Надеюсь, мы договоримся, и я найму его частным учителем.
Амели молчала. Ее, конечно, уязвило, что у Жана-Мишеля все было заранее решено, и об ее согласии он говорил как о пустой дани вежливости. Но сейчас она угрюмо размышляла о том, сколько же пьет этот Блондо, если даже здесь, где выпитое за ужином вино измеряется не бокалами, а кувшинами, люди думают, что это все-таки слишком. И этот человек будет учить ее сына! Что бы на ее месте сказала или сделала мать? Так и не придумав достойный ответ от лица Фритци (где-то в глубине сознания ей показалось, что она слышит звон разбиваемой аптечной посуды), мадам Декарт отвернулась к стене и закрыла глаза. В пять часов придется вставать, растапливать кухонную плиту, греть воду. Скорей бы они нашли постоянную служанку, вот о чем надо думать, а не о пьянице-учителе!..
Глава третья
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
– Смотреть или на меня, или в книгу. Слушать, что я говорю. Открывать рот, только когда велю. Кто отвлекается и болтает на уроке – тот получает линейкой по пальцам. Все понятно? – Господин Блондо покачнулся, глотнул из большой фляги и устало, хотя было еще утро, закрыл глаза. Но когда Фредерик молча ему кивнул, учитель приоткрыл правый глаз, так что вышло очень похоже на подмигивание. – А теперь приступим к занятию. Вот тебе «Басни» Лафонтена. Открывай первую. Что там у нас?
– «Ворона и Лисица», господин учитель.
– Мы разберем на ее примере сразу несколько грамматических явлений и выучим новые слова. Сначала я буду читать, а ты – следить. Потом твоя очередь. Пока ты читаешь в первый раз, можешь ошибаться, спотыкаться, врать напропалую, и я не назову тебя тупицей, а буду терпеливо поправлять. Можешь задавать мне любые вопросы, и я на них отвечу. На второй раз ты имеешь право сделать не больше пяти ошибок и задать не больше трех вопросов. Ну а на третий раз ты мне прочтешь эту басню идеально, и значение любого слова, на которое я тебе покажу указкой, объяснишь правильно. Господин пастор, переведите, чтобы он понял все до последней точки и запятой.
Жан-Мишель перевел.
– Понял? – Фредерик опять кивнул. – А если ты не справишься…
– Тогда линейкой?..
– За еще один самовольный выкрик с места – непременно.
– Простите, господин учитель.
– Так-то лучше. Нет, линейка только за нарушение дисциплины. За тупость у меня другое наказание. Если ты превысишь разрешенное количество ошибок на втором чтении и хотя бы раз ошибешься на третьем, то к оговоренной плате за урок прибавится еще несколько сантимов – по сантиму за каждый раз, когда ты оплошал. А со своим отцом потом разбирайтесь как знаете: лишит он тебя карманных денег или сэкономит на твоих походах в кондитерскую, мне наплевать. – И господин Блондо опять потянулся за флягой.
Пастор Декарт удивленно посмотрел на учителя, который проводил первый урок с его сыном, – не забыл ли он, случайно, что отец, о котором он так небрежно говорит в третьем лице, тоже сидит в этой комнате? Но на равнодушном испитом лице ничего не отразилось. Жан-Мишель решил пока не вмешиваться. Что бы ни придумал этот странный человек, главное, чтобы он знал свое дело. А педагогическую хватку Блондо, очевидно, имел. Жан-Мишель сам начал свою карьеру в Ла-Рошели с преподавания в воскресной школе и по вечерам давал неуспевающим лицеистам частные уроки латыни – и не так давно возобновил эти занятия, потому что на пасторское жалованье нельзя было оплачивать услуги домашнего учителя, даже совершенно опустившегося, такого как Блондо. Словом, пастор мог отличить плохого педагога, которым будут помыкать все кому не лень, от хорошего, того, кто крепко возьмет ребенка за руку и поведет туда, куда нужно.
Для Фредерика потянулись дни, наполненные правилами, спряжениями, пересказами, переписываниями текстов, длинными столбцами новых слов, которые нужно было учить наизусть к каждому занятию. Пастор Декарт условился с господином Блондо, что он будет заниматься с Фредериком по четыре часа каждый день, исключая воскресенья и праздники. Занятия не должны будут прерываться и на лето, разве что можно будет сделать их пореже – не каждый день, а, скажем, по понедельникам и четвергам.
– Не знаю, господин пастор, – скептически хмыкнул господин Блондо, – хватит ли этого времени, чтобы подготовить вашего сына к школе. Он не знает почти ничего, и произношение у него такое, что я вам обещаю – в школе ему придется сидеть за последней партой вместе с черномазыми.
Жан-Мишель пока не имел достаточно аргументов для спора, хотя был уверен, что Блондо преувеличивает, чтобы продлить свой контракт. Да, Фредерик пока еще неважно говорит по-французски, но он учится и старается, и его прогресс очевиден – чего не скажешь о черных и цветных ребятишках из портового квартала, чьи семьи приехали с Антильских островов и обосновались в Ла-Рошели уже не в первом поколении, да так с тех пор и живут в невежестве и нищете. Кого-то из них, бывших рабов, привезли во Францию хозяева, а кто-то, особенно цветные, в начале века сами бежали с острова Сан-Доминго, спасаясь от революции и развязанной чернокожими резни. Жан-Мишель знал, что еще каких-то сорок-пятьдесят лет назад здешним купцам принадлежали крупные плантации сахарного тростника на Сан-Доминго, и его это удручало, это была та страница истории Ла-Рошели, которую он предпочел бы, не глядя, перелистнуть. Он был воспитан матерью и дедом, профессором Сарториусом, в отвращении к рабству, и ему было неприятно думать, что деды и прадеды многих его здешних друзей тоже владели рабами. Хорошо, что его собственные французские предки бежали отсюда еще до начала масштабной работорговли, да и в любом случае были слишком небогаты для этого. 9
– Доживем до лета – посмотрим, – дипломатично ответил пастор господину Блондо, возвращаясь из прошлого в настоящее.
Тот смерил своего нанимателя живым и цепким взглядом, неожиданным для спившегося человека.
– Хотите быстрее – работайте сами.
– Как это понимать? Вы отказываетесь от уроков?
– Нет. – Господин Блондо явно получал удовольствие от напряжения, в котором он держал своего собеседника. – Но каждый день в тот самый час, когда я заканчиваю делать свое дело, вы, господин пастор, должны начинать делать свое. Верните ребенку родной язык, черт вас всех побери! Помогите мне его из него вытащить! Я один всю Францию ему не заменю. Выпустите его из этой комнаты с закрытыми ставнями! Вам не приходило в голову, что уличные игры с приятелями дадут ему не меньше, чем Лафонтен? – Учитель скрестил руки на груди, шумно почесал у себя под мышками. И добавил, наслаждаясь озадаченным видом пастора: – А может быть, и больше.
Амели с первого взгляда возненавидела Блондо. Она, конечно, сознавала, что больше половины этой неприязни предназначается Жану-Мишелю, и она не адресует свои нехристианские чувства мужу напрямую только ради спокойствия семейного очага. Но даже если бы Блондо оказался прилично одетым, вежливым и обходительным господином, он все равно едва ли добился бы у нее симпатии. А этот субъект был просто невыносим. Когда он появлялся в доме, Амели отворачивалась и деликатно прикрывала нос оборкой чепца, однако ее чуткие ноздри все равно обоняли запах давно не стиранной одежды и кислой отрыжки вчерашней выпивкой. За вечно мокрые и грязные следы от его башмаков, которые тянулись из прихожей в кабинет пастора и в библиотеку, превращенную в классную комнату, мадам Декарт хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Но больше всего учитель был ей неприятен своим апломбом. Даже совершенно опустившийся, грязный, вечно пьяный или с похмелья, он отказывался вести себя как человек, которому сделали великое одолжение, и держался в доме Декартов прямо-таки с королевской надменностью, позволяя себе насмехаться над хозяйкой, быть запанибрата с хозяином и штрафовать своего ученика за немецкие слова. Пасторша терпела его только потому, что жалованье он запросил по сравнению с другими частными учителями довольно скромное, меньше, во всяком случае, чем брал за свои уроки латыни сам Жан-Мишель. Все-таки понимает, что в другие приличные дома его не пустили бы дальше передней!
Жан-Мишель утверждал, что господин Блондо прекрасный педагог, и что платить за ошибки Фредерика ему теперь приходится все реже и меньше – позавчера он добавил к обычной плате за урок всего десяток сантимов, а ведь мальчик весь урок занимался тем, что пересказывал учителю по-французски свои любимые немецкие сказки. И сделал так мало ошибок! «За тебя на его месте мне пришлось бы выложить целый луидор», – полушутя-полусерьезно упрекнул он жену. Амели не поддержала разговор. Она предпочитала делать вид, что никакого Блондо в жизни их семьи не существует.



