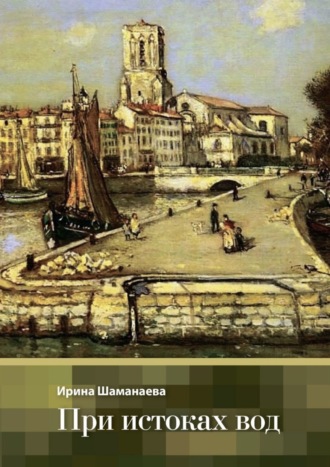
Полная версия
При истоках вод
– Доктор Фромантен, – пробормотала она, избегая смотреть на свою хозяйку. – Он живет в Лафоне, это очень далеко, за городом…
– Ну что ж, значит, пойдем пешком, – медленно проговорила жена пастора. На ее лице ясно читалось: «И за это вы мне тоже заплатите». Но даже юной Жюстине было еще яснее – этот день не наступит никогда.
Глава вторая
РОДНОЙ ЯЗЫК
– Господин пастор! Как удачно, что я вас застал. Вы еще ничего не слышали?
Всегда неторопливого и рассудительного, несмотря на молодость, Леопольда Делайяна, главного библиотекаря Ла-Рошели, было не узнать. Он бежал из библиотеки и размахивал только что полученной газетой. Он готов был поделиться новостью хоть с первым встречным, но когда увидел, что ворота дома Жана-Мишеля Декарта приоткрыты, то решил, что пастор гораздо лучше, чем первый встречный, и без церемоний влетел во двор, едва не сбив с ног хозяина.
– Спокойно, спокойно, Леопольд. Что еще стряслось?
Жан-Мишель собирался на заседание совета консистории. Он отпрянул и потер ушибленное плечо: ему чувствительно досталось тяжелой дверью.
– В Париже совершено покушение на короля! – выпалил Делайян.
– И кто этот храбрец? – спросил Жан-Мишель. По его тону было непонятно, с иронией он говорит или всерьез.
– Некто Фиески, корсиканец. Он попытался убить Луи-Филиппа посредством адской машины, но вместо этого убил восемнадцать человек из его свиты, а король отделался царапинами!
– Адской машины? Вы серьезно?
– Увы. Я не ожидал, что подробности ее устройства появятся в правительственных газетах, никто ведь не хочет, чтобы у Фиески явились подражатели. Но в «Конститюсьонель» упоминают, что адская машина была сконструирована из двух десятков начиненных порохом ружейных стволов. Она взорвалась, когда король возвращался с военного парада. Сила взрыва был чудовищной! Тех, кто оказался слишком близко к эпицентру, буквально разметало по бульвару Тампль – фонтан крови, руки, ноги, головы в разные стороны… Ох, простите, господин пастор!
Делайян вздрогнул и осекся, когда заметил, что из-за куста форзиции за ним наблюдают две пары детских глаз. В следующую минуту дети, которые играли возле каретного сарая, подбежали к отцу. Четырехлетняя Мюриэль тянула за руку своего младшего брата. Оба они были точной копией своего отца – крутолобые мордашки, серые глаза удлиненного разреза, темные, слегка кудрявившиеся волосы, у мальчика аккуратно подстриженные, у девочки распущенные и перехваченные лентой. На лицах не было ни следа испуга – только безграничное любопытство. Правда, непонятно было, что вызвало это любопытство – сам ли Делайян, или то, что он сказал.
– Я не заметил, что Мюриэль и Фред тоже здесь. Клянусь, их не было, когда я только начал рассказывать, но я все равно виноват, что слишком увлекся, – библиотекарь не находил места от смущения.
– Фреду всего два с половиной года. Он ничего не понял, – успокоил Жан-Мишель. – Да и Мюриэль едва ли поняла.
– Er ist dumm, absolument dumm! – заявила Мюриэль, вскидывая глаза на Делайяна. Она отпустила Фредерика и засунула руки в карманы своего передника, расставив в стороны острые локотки, как будто ощетинившись: она, в отличие от брата, уже начала вытягиваться и утрачивать младенческую пухлость. – Er sagt kein Wort bien qu’er ist schon nicht der Kleine!
Леопольд развел руками и с улыбкой наклонился к девочке:
– Признаться, дорогая мадемуазель, из того, что вы сказали, я понял только слова «хотя» и «абсолютно». – И немного удивленно посмотрел на ее отца. – В немецком ваша дочь гораздо сильнее меня.
– Она назвала своего брата глупым и посетовала, что он не говорит ни слова, хотя он уже не такой уж маленький, – пастор слегка вздохнул. – Сама она, правда, болтает за двоих, но большого повода для радости я в этом не вижу.
В словах пастора явно слышалась горечь, но Делайян не понял, в чем ее причина. А тот уже снова перевел взгляд от детей на него и на газету в его руке.
– Рассказывайте дальше, Леопольд, только без кровавых подробностей. Кто такой этот Фиески? Вы сказали, он корсиканец. Конечно, бонапартист?
– Самое удивительное – нет. Правда, участвовал в итальянском походе, но пиетета к памяти Бонапарта не высказывает. В его заговор были вовлечены и бонапартисты, и республиканцы, однако сам он придерживается непонятных убеждений, а может, их у него вообще нет. Добрый католик, регулярно ходит к мессе, – так о нем пишут. Еще пишут, что у него чрезвычайно отталкивающая наружность, и многие считают, что она сама по себе выдает в нем преступника.
– Я все думаю о другом… – проговорил Жан-Мишель Декарт. Он рассеянно взял на руки Фредерика, и малыш немедленно запустил пальцы под его воротничок, где белела специальная вставка – коллар, знак его пасторского сана. – Вы все на свете знаете, Леопольд, и вы, конечно, уже посчитали, которое это по счету покушение на короля за пять лет его царствования. Четвертое или пятое, не так ли?
– Если начинать отсчет от заговора Нотр-Дам, то четвертое. А если от тайного общества, в котором был замешан юный Галуа, математик, то даже пятое. Люди всегда чем-то недовольны, хотя по сравнению с Карлом Десятым Луи-Филипп просто воплощение либерального монарха. Конечно, и на Карла покушались, и свергнут он был в результате революции, но…
– Люди, которые недовольны, не хотели либерального монарха, Леопольд. Они хотели республику. А заговор этот явно не последний, потому что на дальнейшие послабления сейчас рассчитывать не придется. Закроют самые смелые газеты, запретят собрания, словом, все как всегда…
– Здесь, в Ла-Рошели, все будет тихо и спокойно, господин пастор. Вы знаете, даже в пору революционного террора здесь скатилась с плеч всего одна голова – несчастного Дешезо, депутата, обвиненного в связях с жирондистами.
– А четыре сержанта? – спросил Жан-Мишель. 6
– Я помню четырех сержантов, хотя был тогда мальчишкой, – проговорил Делайян. – Знаете, что самое удивительное? Наш город не назовешь прореспубликанским, мало кто симпатизирует карбонариям. Но вся Ла-Рошель единодушно сострадала этим молодым людям, заточенным в Фонарной башне. У них здесь были невесты, четыре местные девушки не побоялись объявить, что свяжут с заговорщиками свою судьбу. Когда их все-таки увезли в Париж и казнили, в Ла-Рошели их разве что не причислили к лику святых. Не удивительно, что и вы знаете об этой истории, хоть и не жили здесь в то время.
– Когда я приехал сюда, Фонарная башня уже называлась в народе башней Сержантов…
Дверь дома открылась, вышла Амели. Несмотря на августовскую жару, она была в длинном глухом платье с длинными рукавами. Однако высоко подколотые светлые волосы открывали белую точеную шею, и Леопольд Делайян невольно задержал на ней свой взгляд. Он в который раз подумал, что если бы не всегдашняя угрюмость мадам Декарт, ее можно было бы даже назвать красивой женщиной.
– Мое почтение, мадам, – приподнял он шляпу.
– Добрый день, мсье, как поживаете? Как себя чувствует мадам Делайян?
Она равнодушно скользнула глазами по его взволнованному лицу и по ослабленному из-за жары узлу галстука. Амели недолюбливала этого интеллектуала за то, что он, по ее мнению, слишком любил выставлять напоказ свою эрудицию, но симпатизировала его жене, милой и скромной Маргерит. Делайян женился в прошлом году, сразу после назначения на пост главного библиотекаря Ла-Рошели. Теперь они с женой ждали первенца.
– У нее все хорошо, благодарю, мадам.
Амели подошла к мужу, забрала у него Фредерика и мягко подтолкнула в спину Мюриэль. «Дети! Быстро домой!» – скомандовала она по-немецки. Ей совсем не понравилось, что они стоят тут в обществе отца и одного из его друзей и слушают разговоры, неподобающие их возрасту.
– Я задерживаю вас, господин пастор? – спохватился Делайян. – Вы в церковь или в музей? Позвольте мне проводить вас.
– Пойдемте, мой друг, буду рад прогуляться с вами. Церковный совет без меня, конечно, не начнут, но надо поторапливаться, – сказал Жан-Мишель. Не оглянувшись на жену и детей, он открыл калитку. – Правда, я думаю, сегодня мы будем обсуждать не предстоящий ремонт нашего органа, не выходное пособие учителю воскресной школы, и не награды лучшим ученикам, а сугубо мирские дела.
– Мэр ведь тоже состоит в вашем совете? Он, разумеется, уже знает о покушении на монарха, и не сомневаюсь, что он возмущен до глубины души.
– И я не сомневаюсь, – буркнул Жан-Мишель.
Пьер-Симон Калло, друг пастора, мэр, который присутствовал два с половиной года назад на крестинах Фредерика, человек молодой, либеральный и очень просвещенный, год назад подал в отставку, не выдержав постоянных стычек то по одному, то по другому вопросу с префектом департамента. Новым мэром стал Жан-Жак Расто, также протестант, из богатой семьи судовладельцев, гораздо больший консерватор, чем Калло. Теперь между мэром и префектом Адмиро было полное взаимопонимание, и даже те, кто, как Жан-Мишель, любили прежнего мэра, нехотя признавали, что мир между двумя ветвями власти пошел на пользу городу.
– Понимаю, что вы, протестанты, как и мы, католики, не обязаны быть во всем единодушными. Но почему-то я все же удивлен, что мэр Калло и префект Адмиро не нашли общего языка, – признался Делайян.
– Это ведь риторический вопрос? Что до меня, к примеру, то я нахожу в своих взглядах на политику больше общего с вами, Леопольд, хоть вы и католик, чем со многими моими единоверцами, – ответил Жан-Мишель. – Я даже немного удивлен, сколько среди них монархистов и легитимистов, для которых и режим Луи-Филиппа слишком либеральный и грозит пошатнуть опоры общества.
– Многие наши протестанты таковы, – ответил библиотекарь. – Для них эти взгляды, можно сказать, общее место. Если бы ваши предки Декарты не уехали в разгар контрреформации, а остались здесь, вас бы тоже так воспитали. Монархизм благополучно унаследован городской верхушкой, состоящей на добрую половину из потомков гугенотов, с тех самых времен, когда Ла-Рошель выторговала у короля неслыханные вольности и платила за них абсолютной лояльностью сюзерену. Зато уж земельной аристократии здесь поживиться было нечем, мы бы не потерпели – и не терпели! – всех этих спесивых дворянчиков с их замками…
Жан-Мишель промолчал. Он это и так знал.
– Как жарко! – шумно вздохнул Делайян. – Вам нравится здешний климат? Я люблю свой город, кроме нескольких недель в году, когда мечтаю оказаться где-нибудь в Гренландии. У моря легче дышать, но ведь нельзя вместо службы целый день провести на пляже или в купальне.
– Организуйте передвижную библиотеку прямо на пляже Конкюранс, мой друг, я уверен, что горожане выстроятся к вам в очередь, – улыбнулся пастор. – Только представьте: вы сидите в кресле под зонтиком с книгой в руках, или бродите по песку, а ваши ступни ласкают волны прибоя…
– Ах, да ну вас! – фыркнул Леопольд.
Какое-то время они молча шли по улице Вильнев. Пастор глядел по сторонам. Больше восьми лет он живет в Ла-Рошели, а строгие фасады домов из белого песчаника, шпили на крышах, решетчатые ставни от солнца, двери всех оттенков синего, от небесно-голубого до глубокого ультрамарина, умиляют его все так же, как в те дни, когда он увидел их впервые и понял, что здесь его настоящая родина. И жара, как сегодня, когда внутри городских стен чувствуешь себя будто в каменном мешке, и зимние дожди, и шквальный ветер, который иногда обрушивается на город, как в том начале января, когда родился Фредерик, – все это Жан-Мишель Декарт принимал с несвойственным ему смирением и даже можно сказать, еще сильнее любил за это Ла-Рошель. Потому что любить прекрасный старый город на берегу океана было бы слишком легко, а пастор, как любой влюбленный, жаждал совершить какой-нибудь подвиг или хотя бы принести неопровержимое доказательство своей преданности. Этим доказательством стала его безоговорочная лояльность Ла-Рошели. Все несовершенства этого города и его жителей, которые пастор обнаружил за прожитые годы, только открывали новые оттенки и обертона в той мелодии, которая заставляла петь его сердце. Со своей пасторской службой он примирился, на семейные неурядицы научился закрывать глаза и уши. Все это было неважно до тех пор, пока никто не покушался на главное – на его право жить здесь и чувствовать себя своим.
– Послушайте, господин пастор, – вдруг сказал Делайян, когда они почти дошли до улицы Сен-Мишель. – Только не сердитесь на меня. Мадам Декарт всегда говорит с детьми и при детях по-немецки, как сегодня?
– Кажется, да, – ответил застигнутый врасплох Жан-Мишель.
– Ваша жена тоскует по родному дому, ее можно понять. Но ведь у Мюриэль и Фредерика дом здесь, а не в Германии. Вы не задумывались о том, что пройдет несколько лет, и им придет время идти во французскую школу? Фредерик все равно заговорит, не волнуйтесь на этот счет. Я читал, что у детей, которые появились на свет в результате трудных родов, это иногда бывает. Вопрос – на каком языке он заговорит?
– Владеть вторым языком на уровне родного – совсем неплохо, мой друг. Я тоже так рос. Отец говорил со мной по-французски, а улица, школа и все остальное окружение – по-немецки.
– А ваша мать?
Лицо Жана-Мишеля затуманилось. Эта рана была еще слишком свежа. София-Вильгельмина умерла в конце февраля 1833 года, через месяц после того, как у Райнера и Адели родился сын, нареченный Эберхардом.
– Моя мать была одной из образованнейших женщин своего времени и в совершенстве владела несколькими языками, – ответил пастор. – Но, к сожалению, ни я, ни брат ее способностей не унаследовали. Латынь я, разумеется, знаю хорошо, экзамены по греческому и древнееврейскому сдал и до сих пор еще кое-что помню, а вот на изучение живых языков мне всегда было жаль времени. Поэтому я благодарен обстоятельствам за то, что у меня оказалось два родных языка вместо одного.
– Но много ли вы говорите со своими детьми по-французски? – не унимался Делайян, в котором проснулся школьный учитель. – И в парке они всегда гуляют только с матерью, и со своими ровесниками не встречаются…
– Я пытался убедить Амели доводами насчет школы, – нехотя ответил на это Жан-Мишель. – Она меня не слушает.
– Хорошо, что я не протестант, – засмеялся Делайян. – А своим единоверцам лучше в этом не признавайтесь. Кто же захочет слушать священника, мнение которого ни во что не ставит собственная жена? Ей-богу, в такие моменты я понимаю, для чего нашим святым отцам понадобился обет безбрачия.
Последний поворот, и они вышли на улицу Сен-Мишель. Пастор издали увидел на крыльце протестантского храма невысокого худощавого человека с развевающимися седыми волосами, в роговых круглых очках – аптекаря Поля-Анри Сеньетта, секретаря совета консистории. Он беспокойно вертел головой, поглядывая то налево, откуда должен был появиться пастор, то направо. Значит, еще не все собрались, и ждут не только его. Жан-Мишель подал руку Делайяну с сердечностью, не слишком искусно прикрывающей неловкость:
– Спасибо, что зашли ко мне, Леопольд.
– Спасибо, что выслушали. Ну, удачного заседания, и пусть ученики воскресной школы все-таки не останутся без наград, а церковь – без органа.
Но к ним уже бежал Поль-Анри Сеньетт, и за очками в его глазах плескался ужас пополам с любопытством:
– Господин пастор, господин библиотекарь, вы еще не знаете нашей главной новости? В Париже совершено покушение на короля!..
…Когда Фредерик Декарт учился в начальной школе, он впервые услышал фамилию Фиески от своего учителя и понял, что она ему откуда-то уже знакома. Более того, он смутно помнил, что каким-то образом там замешан и король. Позднее, в лицее Колиньи, он узнал точную дату покушения Джузеппе Фиески на Луи-Филиппа, 28 июля 1835 года, сопоставил с другими отрывочными картинками раннего детства и решил, что это и было его самое первое воспоминание.
Рядом с ним в плотном тумане, окутывающем первые годы жизни, смутно мерцало еще одно происшествие. Может быть, оно случилось тем же летом. Однажды жарким утром отец впервые показал Фредерику океан.
Они пришли всей семьей на пляж Конкюранс довольно рано, пока солнце не стало слишком припекать. В то время за стенами Ла-Рошели – «extra muros», как выражалось образованное сословие, кроме портов находились лишь два примечательных заведения, и одним как раз были общественные купальни «Мария-Тереза», основанные всего семь лет назад. Порой на удобных участках побережья открывались и другие купальни, но все они разорялись, а эти, «окрещенные» самой герцогиней Ангулемской Марией-Терезой, дочерью казненного короля Людовика Шестнадцатого, посетившей в 1826 году Ла-Рошель, пользовались неизменной популярностью, и пляж Конкюранс, в соответствии со своим названием, процветал. Над купальнями вдоль берега моря тянулась широкая, длинная, прямая как стрела аллея Май, обсаженная вязами и итальянской сосной. Здесь по праздникам играл оркестр, а в будние вечера гуляли парами и семьями. Внутри городских стен улицы были слишком узкими и не годились для массовых гуляний.
Совсем не подходила для них и набережная Старого порта, называемая в те годы набережной Горшечников, потому что на ней был крупнейший на всем западном побережье склад фарфоровой и фаянсовой посуды: французские, испанские, английские и голландские фабриканты отправляли сюда продукцию своих мануфактур, чтобы через порт Ла-Рошели торговать этим хрупким товаром со странами Востока и с Америкой. Набережная к тому же была вся изрыта землечерпальными машинами. Гавань то и дело затягивало илом и песком, ее приходилось чистить, и в жаркие дни над ней висела вонь донных отложений. Привычным был и запах рыбы. Рыболовные суда швартовались в самом сердце города, и тут же в огромном ангаре пойманную рыбу, выгруженную из трюмов, взвешивали, паковали в ящики, продавали оптовым торговцам и развозили по лавкам и ресторанам или разделывали и пересыпали солью, чтобы она доехала до Ньора, Пуатье и далее.
В общем, пастор Декарт со всеми своими чадами и домочадцами в этот день покинул городские стены, и никто бы его за это не осудил. Стоял один из лучших дней лета. Прилив был в самом разгаре, волны бурлили и лизали берег, продвигаясь все выше по песку. Мюриэль была здесь уже не в первый раз и нетерпеливо пританцовывала, ожидая, пока мать заплатит в кассу несколько сантимов за право воспользоваться раздевалкой. Амели с Мюриэль и Жюстиной ушли в ту тщательно огороженную часть купален, которая была предназначена для дам и девиц. Пастор сказал жене, что пока побудет с Фредериком на берегу, а когда она вернется, то и сам искупается.
Он поставил мальчика в метре от воды и сказал: «Посмотри-ка, Фред! Это наш Гасконский залив, наше Аквитанское море, часть большого океана».
Небо было пронзительно синим, а вода – мутной от песка. Неприятно пахло гнилыми водорослями. Под ногами попадались выброшенные на берег мелкие медузы и шкурки акульих яиц. Море шумело мерно и как будто успокаивающе, но оно не было спокойным, оно предупреждало о своей силе и не терпело непочтения. Маленький мальчик сморщил нос и задумался: заплакать? Убежать? Прильнуть к отцовским ногам? Он выбрал самое неожиданное решение и внезапно пошел вперед, навстречу быстро прибывающей воде. Первая волна окатила его по пояс, и он покачнулся, но устоял на ногах и даже сделал еще один шаг. Вторая волна оказалась очень высокой и сбила его с ног. Он успел увидеть стремительно опрокидывающееся небо, и мир наполнился соленой горечью, она хлынула в уши, в нос, в рот и в глаза и сделала их непроницаемыми для звуков и красок летнего дня. Только теперь задумавшийся о чем-то Жан-Мишель опомнился и подхватил сына под мышки. Очутившись в безопасности, мальчик наконец позволил себе разрыдаться на весь пляж. Пастор похлопывал его по спине, чтобы прошла икота, гладил, успокаивал, но ничего не помогало. Фредерик безутешно плакал не потому, что испугался воды, а потому, что он только что получил подтверждение реальности своего другого, еще более сильного страха. Оказывается, бездна, в которой жили его ночные кошмары, была совсем рядом. Он временами видел во сне вязкую темноту, которая обступала его и не давала дышать. В такие ночи он просыпался в слезах, и тогда ни Амели, ни Жюстина не могли его успокоить до самого рассвета. Хотя в остальном он был довольно спокойным ребенком и днем почти не доставлял хлопот своей матери.
Поздней осенью все того же 1835 года Фредерик начал говорить. Он не позволил долго умиляться своим первым словам, вскоре очаровательный детский лепет у него сменился длинными путаными предложениями. Их синтаксис был немецкий, три четверти слов тоже были немецкие, но по-французски он тоже кое-что понимал и вплетал в свою речь и французские слова. Теперь и Мюриэль не смогла бы назвать своего брата «глупым» – она ведь говорила точно так же, как он! За последний год, правда, французский у нее улучшился, потому что она полюбила болтать и секретничать с няней Жюстиной. Фредерика смущали их таинственные перешептывания, он подозревал, что иногда они смеются и над ним, и никогда не присоединялся к их компании. Он спокойно играл в детской один – то фребелевскими кубиками, которые бабушка Фритци в свое время привезла для Мюриэль, но сестра к ним даже не притрагивалась, то солдатиками, подарком дяди Райнера и тети Адели.
У Эберхарда в Потсдаме был такой же набор солдатиков. Когда мальчикам было по четыре с половиной года, Картены приехали всей семьей в Ла-Рошель, и Фредерик наконец познакомился со своим кузеном, родившимся в один год с ним, с разницей ровно в три недели. Тот был маленьким, щупленьким и очень задиристым. Фредерик сначала решил, что Эберхард ему совсем не нравится. И в этот момент дядя Райнер вытащил из чемодана две новенькие одинаковые коробки и вручил их сыну и племяннику. Они тут же подружились и стали практически неразлучны. Весь месяц, пока Эберхард и его родители гостили в доме пастора Декарта, мальчики в любую свободную минуту устраивали сражения между своими армиями. В какой-то момент они додумались перенести игру на лестницу, которая вела в детские спальни, и соревнования в захвате господствующей высоты приводили их в восторг – ровно до тех пор, пока Эберхард не поскользнулся и не пересчитал головой ступеньки. Он так расшибся, что пришлось бежать в госпиталь Сен-Луи за доктором Дювосселем. Тетя Адель и дядя Райнер и не думали в чем-то винить Фредерика, для них не имело значения, кто из мальчиков первым предложил играть на лестнице. Но Амели в назидание все равно заперла его до обеда в «библиотеке» – так называлась маленькая комната с закрытыми на ключ книжными шкафами, столом и парой стульев, попасть в нее можно было только из кабинета пастора.
Когда через час Амели открыла дверь, то не сразу увидела сына. Стулья были пустые, портьера отдернута, подоконник пустой. А Фредерик растянулся прямо на полу, и перед ним лежал раскрытый большой атлас-определитель насекомых, который сегодня утром листали, да так и не убрали в шкаф на место потсдамские родственники. Мать обошла Фредерика на цыпочках, заглянула ему в лицо и не поверила своим глазам. Она точно знала, что Фред еще не умеет читать. Однако он не просто разглядывал картинки, он водил пальцем по строчкам и самозабвенно шевелил губами, как будто и в самом деле пытался разобрать латинские названия.
Пасторша не знала, то ли ей радоваться, что сын теперь уж точно не останется бессловесным дурачком, то ли огорчаться, что в ее доме на ее глазах подрастает еще одно несомненное продолжение рода Картенов и Сарториусов. Ох уж эта эгоистичная порода! Как и старшая дочь, сын всего лишь воспользовался ее телом, чтобы появиться на свет, и не взял ровным счетом ничего ни от Шендельсов, ни от Видмеров. Амели это по-настоящему беспокоило, она была уверена, что с такими задатками очень сложно добиться чего-то в жизни. Мюриэль и Фред непослушны, дерзки, своевольны, не имеют ни малейшего понятия о дисциплине. Только и слышишь от них: «то хочу, это не хочу», «то интересно, это не интересно». И если Мюриэль хотя бы веселая, открытая и временами ласковая девочка, то о Фредерике и этого не скажешь. Вечно думает о чем-то своем. Окликнешь его – молчит, смотрит стеклянными глазами, как будто изучает невидимую сторону вещей. Реагирует он только после того, как мать, повторив свой вопрос несколько раз, срывается на крик и обещает надрать ему уши или дать подзатыльник. Амели не признавалась мужу в том, что несколько раз доходило и до этого. Жан-Мишель пришел бы в ярость, если бы узнал, что жена применяет к детям телесные наказания: его мать София-Вильгельмина, разумеется, их с братом за все их детство даже пальцем не тронула, их дерзости она считала проявлением независимого характера и свободного ума. Даже свекор, Мишель Картен, убежденный в том, что дети должны знать твердую руку и беспрекословно подчиняться старшим, первым осудил бы невестку. Проклятые лицемеры. Амели не сомневалась, что свекровь специально сделала все, чтобы сыновья запомнили ее как идеал матери, а их жены обречены были всю жизнь проигрывать битву с ее тенью. И умерла она так рано тоже не без умысла, – чтобы у всех в памяти остались ее белоснежные крылья и нимб над головой!



