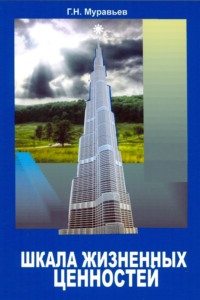полная версия
полная версияТроичность вокруг нас
Именно эта, высшая форма человеческой любви и вошла во вторую заповедь Христа, которую он называет подобной первой (наибольшей) заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею…» (Мк. 12, 30–31). (В тексте Втор. 6, 5 вместо слов «всею крепостью твоею» написано «всеми силами твоими».) В сущности, первая заповедь призывает человека возлюбить Бога непосредственно всею триадою своею, на всех планах: проявлённом, духовно-интеллектуальном и душевно-эмоциональном.
Поскольку наш ближний по изначальному созданию своему есть подобие и образ Бога, постольку и любовь наша к ближнему должна являться образом и подобием нашей любви к Богу. Это – своего рода проекция любви к Богу на человеческом плане.
Итак, в силу подобия, человек должен возлюбить ближнего, как и Бога, также всею триадою своей. Это вполне естественно, т.к. любовь, троичная по своей структуре и живущая на всех планах триады, исходит из одного и того же источника – человека. И в силу этого человеческая любовь – в принципе одна и та же по своей сущности, одного и того же «качества», независимо от своей направленности – к Богу или к ближнему. Таким образом, между понятиями «любовь к Богу» и «любовь к ближнему» можно поставить знак подобия, но не знак равенства. Различие состоит в силе самой любви: заповедь любви к Богу требует от человека максимальной мобилизации всех ипостасей его троичной структуры. Слова «всем» и «всею» в первой заповеди определяют силу этой любви. Любовь же к ближнему (даже самому близкому человеку) не может быть выше любви к Богу: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин и Меня…» (Мф. 10, 37).
Как видим, любовь человека к ближнему своему имеет, образно говоря, божественное начало (подобие любви к Богу), но человеческое окончание (ограничение: «как самого себя»). Рассмотрим подробнее и то и другое.
***
Что значит возлюбить Бога (и подобно тому ближнего) «всей крепостью своей» или «всеми силами своими»? Это – любовь к Богу и ближнему на проявленном плане, на уровне поступка. Явить эту любовь означает приложить все силы (крепость свою) к удержанию себя от позывов нижнего животного плана; к недопущению деяний, мерзких Богу и человеку, табуированных, в частности, Моисеевым законом. Какими усилиями это может быть достигнуто – следует из Нагорной проповеди: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя… И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф. 5, 29–30). И в то же время максимально полно, всеми силами и возможностями вершить добрые дела: «Дети мои! Станем любить друг друга не словом или языком, но делом и истиной», – призывает апостол Иоанн (1 Ин. 3, 18).
На уровне «всеми силами» любовь к Богу проявляется через любовь к ближнему: «Возлюбленные! Будем любить друг друга… Кто не любит, тот не познал Бога» (1 Ин. 4, 7–8). В свою очередь любовь к ближнему есть совершенный путь познания Бога, что и следует из фрагмента: «Возлюби Господа Бога всем разумением твоим». Что это значит?
Это любовь к Богу на духовно-интеллектуальном плане, выражающаяся в стремлении осмыслить Бога, воспринять и познать Его человеческим разумом («разумением твоим»). Но поскольку «Бога никто никогда не видел» (1 Ин. 4, 12), то познать Творца разумом в какой-то степени возможно только через Его творения, высшим и совершенным из которых является человек. «Познай себя – и ты познаешь Богов и Вселенную», – таков девиз древних гностиков. Следовательно, любовь к Богу «всем разумением» проявляется в подобной любви к Его творениям; в частности – в любви к ближнему. И эта любовь на духовном плане в свою очередь трансформируется в творческий, познавательный процесс, где предметом исследования становится микрокосм, т.е. человек – образ и подобие Бога.
Но прежде, чем возлюбить Бога всеми силами и разумением, необходимо возлюбить Его «всем сердцем твоим, всею душой твоею». Вот почему первая из заповедей начинается именно с этих слов. В основе же любви к Богу на уровне души и сердца лежит вера. Иначе как же можно вообще любить, не веря в предмет своей любви, не воспринимая его существования? Как можно исполнять заповеди Того, Кто для тебя просто не существует и тем более – познавать Его разумением своим?
И как невозможна любовь к Богу без глубинной веры в Бога, так же невозможна любовь к ближнему, если не понять и не почувствовать, что именно этот человек и есть твой ближний. Иными словами, невозможна любовь к ближнему без веры в ближнего.
Возлюбить Бога всем сердцем и душою означает проникнуться к нему всей глубиной душевного плана и благодарить Его за безграничную любовь к творению своему – человеку. Готовность самопожертвования во имя Господне – вот цена человеческой любви к Богу: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее…» (Мф. 10, 38; 16, 25).
Подобно этому, любовь к ближнему есть воздаяние ему сердцем и душой не только и не столько за благородный поступок, но более – за человеческую любовь, явленную в этом поступке, за душевный импульс и намерение, предшествующие доброму деянию. Воздаянием ближнему может быть и сама человеческая жизнь, ибо: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).
Итак, Любовь к ближнему ограничена пределом «как самого себя». Следовательно, уровень любви к себе и является мерилом любви к ближнему.
***
Что же следует понимать под любовью к себе? Конечно, речь идёт не о физиологической любви, порождённой инстинктом самосохранения. Подобная любовь к себе естественна и свойственна любому живому существу, в том числе и человеку, «ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее…» (Еф. 5, 29). Но чем сильнее любовь человека к своей плоти и тому, что «питает и греет ее» (бытовому комфорту), тем слабее в нём желание делиться своим достоянием с другим. Закоренелый эгоист вряд ли способен жертвовать даже незначительной частью своих благ во имя ближнего, о чём уже говорилось в предыдущей главе. Вряд ли любовь к себе на физиологическом уровне способна быть мерилом любви к ближнему и поощряться Богом и Сыном Божьим. А ведь любовь и к Богу, и человеку (ближнему, брату твоему, сыну народа твоего и т.д.) никогда не остаётся незамеченной и невознаграждённой Богом. Подтверждений тому и в Ветхом, и в Новом Завете – более чем достаточно. Так, мудрый Соломон весьма образно и доходчиво утверждает: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу; и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч. 19, 17).
Пример ответной любви Христа в отношении тех, кто глубоко и открыто верует в него, приведён в Мф. 10, 32: «Итак всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедаю и Я пред отцем Моим небесным». А в Мф. 25, 31–40 Христос приравнивает награду за любовь к человеку («одному из сих братьев Моих меньших») к награде за любовь к Богу. И тогда тайная, неосознанная надежда на божественное воздаяние за любовь к ближнему становится вполне естественной для человека.
Любовь к ближнему – любовь ответная, «вторичная» по природе своей. Какой же она должна быть? Чем воздать ближнему за его «первичную» любовь к нам, за любовь по инициативе его души и сердца? На этот вопрос и Ветхий, и Новый Заветы дают, казалось бы, вполне ясный ответ – возлюбить как самого себя. Но не всё так просто, как это может показаться при первом прочтении заповеди.
Дело в том, что заповеди о любви человека, во-первых, к Богу и, во-вторых, к ближнему базируются на ценностях разных категорий: наивысшей и высшей соответственно. Смысл первой заповеди вполне очевиден, чего не скажешь о второй. До тех пор, пока человек глубинно не усвоит себе, что он сам и есть высшая ценность (и выше её – только Бог!), он будет недооценивать себя, занижая планку любви к самому себе и (по логике заповеди) к ближнему своему. До тех пор, пока сама личность не станет мерилом своего отношения к ближнему, любить себя и ближнего она будет по разным стандартам.
Чтобы прочувствовать божественное предписание относительно критерия любви к ближнему, необходимо мысленно поставить на его, ближнего, место самого себя и постараться вжиться в эту временную роль. Иначе говоря, тщательно «примерить на себя» ситуацию, в которой побывал (или может оказаться) наш ближний, и по возможности непредвзято увидеть и всеми фибрами почувствовать себя в этой роли. Теперь в соответствии с этой самооценкой ответим на вопрос (только без вранья самому себе!): чего мы заслуживаем, чего достойны? Иными словами, какой любви к себе хотели бы мы со стороны возлюбленных нами?
Ответив на этот вопрос, выходим из роли, возвращая её ближнему и возлюбив теперь его так, как мы любили себя ещё совсем недавно.
***
Я слишком детализировал понятие «как самого себя», но сделал это преднамеренно для наглядности. В краткой же, лаконичной форме оно сформулировано Христом: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Мф. 7, 12). Ключевым понятием в этой заповеди является «как хотите». Именно представление человека о желаемом отношении к себе и является (точнее – должно являться) мерой его отношения к людям. Таким образом, мы сами устанавливаем меру своей любви к ближнему, которая не должна быть слабее любви ближнего к нам.
Но у каждого из нас может быть и не один ближний. Таковыми становятся, в силу обстоятельств, очень многие люди. Правда, мы не всегда, как уже говорилось, способны это почувствовать и должным образом оценить. Но даже к признанным ближним – будет ли одинаковым наше отношение? В одинаковой ли мере и форме проявится наша любовь к ним, а точнее – к каждому из них? Конечно, нет! Хотя, казалось бы, я, как эталон, не изменяюсь и сохраняю стабильность своего представления о любви.
Дело в том, что человек обладает не единым эталоном, а набором эталонов различных номиналов и достоинств, что позволяет ему дифференцированно возлюбить своих ближних. Вначале человек выявляет для себя степень достоинства и значимость поступка ближнего, глядя на содеянное через призму собственного видения. Затем он сверяет всё это с соответствующим нравственным эталоном и определяет меру и форму любви к ближнему. Этот процесс завершается на плане души, хотя участие в нём принимает вся человеческая триада.
«Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7, 2). Но ближний-то уже отмерил нам меру своей любви (иначе он бы просто не стал нашим ближним). Теперь слово за нами. И подходя к заповеди Христовой как бы с обратной стороны, мы находим адекватную меру своей любви, которой и должны отмерить нашему ближнему. Естественно, любовь эта будет иметь практически столько оттенков и разновидностей, сколько есть самих ближних. Однако единый принцип любви «как самого себя» при этом не нарушается, т.к. набор эталонов в полном своём составе – всегда при нас. Он является частью нашего «я» и бережно хранится (эталон всё-таки!) на среднем, душевном плане триады. И поэтому, несмотря на многообразие проявлений любви к ближнему, все они будут порождением одного и того же нравственного принципа.
Дифференцированный подход (выбор эталона близости) в любви к нашим ближним мотивируется не общей с ними религией или национальностью, и даже не степенью фамильного родства, а чем-то иным. Это чувство, как и любое чувство вообще, трудно сформулировать словесно. Оно не исполнение долга, не компенсация, выплачиваемая ближнему за проявленную любовь, и не расплата, не взаимный расчет: «ты – мне, я – тебе». Здесь не идёт речь о рассудочном взвешивании деяний ближнего, в котором участвует холодный ум. Любовь к Богу и ближнему не имеет количественного эквивалента. Две лепты, принесённые в дар Богу бедной вдовой, перетягивают своей любовью к Всевышнему все дары богатых иудеев с их показной религиозностью (Лк. 21, 1–4), на чём Христос и акцентирует внимание апостолов.
«Да, но Христос тем не менее в своей заповеди Мф. 7, 2 оперирует понятием «мера», – могут возразить некоторые, – а это понятие буквально связано с количеством чего-либо. В данном случае, условно говоря, – любви».
Нет, согласиться с этим нельзя. В контексте нагорной проповеди «мера» – понятие не всегда количественное. Чаще – это качественная характеристика действий, поступков, намерений с точки зрения их нравственного содержания. Например, «мерою доброю…» (Лк. 6, 38). Или: «Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины!» – гневно обличает Христос фарисеев, как продолжателей злых деяний (МЕРОприятий) их предков (Мф. 23, 32).
В целом же понятие «мера» в Новом завете достаточно условно и многозначно. В зависимости от контекста оно способно выражать и количество, и качество. В последнем случае «мера» сродни «эталону», который был использован для характеристики уровня любви к ближним. Да и в повседневной жизни слова «мера» и «эталон» часто употребляются не в метрологическом их значении. Например: ответная мера, мера пресечения, эталон красоты и т.д.
Итак, мера любви к конкретному ближнему есть продукт жизнедеятельности нашей души. Именно на среднем плане человеческой триады происходит оценка инициативной любви ближнего к нам и выбор эталона ответной любви к ближнему (в рамках «как самого себя»). Достоинство выбираемого эталона определяется нашей душою в меру (опять же в меру!) её восприимчивости к любви и вниманию. Следовательно, не исключён вариант, когда наша реакция на любовь ближнего будет неадекватной – в виде ответной любви более высокого уровня. Это вполне возможно: «Давайте и дастся вам: мерою… переполненною отсыплют вам в лоно ваше…» (Лк. 6, 38).
Слово «переполненною», т.е. сверх меры, может быть раскрыто по-разному. Прагматичный обыватель расценит его как прозрачный намёк Христа на возможность получить (нечто материальное, безусловно) больше, нежели отдать. Иной же, наоборот, узрит в этом «превышение расходов над доходами», т.е. неадекватно высокую плату за любовь ближнего (выбор эталона любви явно завышенного достоинства). Но человеку, возлюбившему ближнего душою своею, такой меркантильный подход абсолютно чужд. Для него неадекватных эталонов не существует: все они – нормальны, т.к. находятся в пределах сугубо индивидуального понятия «как самого себя». Нет, не расчётливую, материально выгодную «любовь», унижающую человека, имеет в виду Христос.
Как раз на физическом, внешнем плане ответная любовь к ближнему может явить себя очень буднично, почти незаметно или не проявиться вовсе. Ведь далеко не у каждого есть материальные и иные возможности для выражения своей любви в видимой форме. К тому же волею судеб может не представиться случая, чтобы воздать ближнему за его добрые дела чем-то равноценным, адекватным внешне. Так что на материальном плане мера ответной любви может быть и не переполненной. Но, «кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк. 8, 8): Христос подразумевает душевную чашу, переполненную любовью, которая далеко не всегда есть поступок и благодеяние, но всегда – намерение и желание свершить их во имя ближнего.
Итак, подведём короткий промежуточный итог. Любовь к ближнему подобна любви к Богу на всех планах триады: внешнем, душевном, духовном. В силу этого подобия, любовь к ближнему является своего рода моделью любви к Богу. Любовь к Всевышнему ограничивается только и только полнотой человеческих возможностей: всею крепостию, всею душою, всем разумением. Любовь же к ближнему «лимитирована» понятием «как самого себя», что означает: я воздаю ближнему той любовью, которой достоин сам, окажись я ближним в подобной ситуации.
И, наконец, следует заметить, что ближний и возлюбивший ближнего, замыкаясь во взаимной любви, составляют систему (пару), в которой прямая и обратная связи действуют поочередно. Иными словами, каждый из двух людей в этой паре последовательно и неоднократно становится как ближним, так и возлюбившим ближнего. С течением времени обе функции соединяются в каждом из них настолько, что образуется новый стабильный тип «монолитных» взаимоотношений.
Индивидуальная половая любовь
В наших рассуждениях о любви ближнего и к ближнему я не акцентировал внимания на половой принадлежности любящего и любимого. Речь шла о любви, неокрашенной сексуальной притягательностью, а поэтому и возлюбивший, и объект его любви являлись существами, условно говоря, бесполыми. Такая любовь раскрывается на нейтральном в сексуальном отношении фоне. Естественно, она не лишена жалости, сочувствия, сострадания и т.д. Более того, возможно, что она зарождается и существует благодаря именно этим чувствам. Но эмоции человеколюбия не имеют половых признаков. На проявление этой любви в значительной степени влияет разум, рассудок, чувство долга, этическое воспитание и т.д.
«Однако сущность любви наиболее полно проявляется в отношениях между людьми: самая яркая её форма, загадочная и неотвратимая по силе воздействия, – индивидуальная половая любовь» [6], с. 164.
Характерно, что само слово «любовь» требует уточнения (ответа на вопрос «к кому?» или «к чему?») почти во всех случаях, не относящихся к любви половой. Например, любовь к Богу, к Родине, природе, детям, родителям и т.д. И только интимное и глубокое чувство выражается просто словом «любовь», предельно ясным и понятным миллионам людей во все времена.
Такая любовь не противостоит любви к ближнему, а наоборот – вбирает её в себя, усиливает и обогащает разнообразием форм и проявлений. Ибо связанные глубинным чувством Он и Она естественным образом будут образцовыми ближними, способными возлюбить друг друга более, чем самого себя.
***
Сотворив женщину из ребра Адама («человека» – в переводе с еврейского), Бог по существу выделил из тела андрогинного человека женское начало.
Таким образом, мужчиной (мужем) Адам становится «автоматически» после извлечения из него потенциально сокрытой Евы (жены).
После разделения единого человеческого существа на мужчину и женщину Бог завещает им, а в их лице и всему человечеству: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут как одна плоть» (Быт. 2, 24). Таким образом, разделённые Богом женская и мужская половины единой когда-то плоти должны стремиться к воссоединению. Это дарованное Творцом каждому человеку неудержимое желание соединиться с существом противоположного пола является неисчерпаемым источником любовной энергии. Глубинные чувства человека, приведённые в активное состояние этой энергией, и есть «индивидуальная половая любовь» (в сухой формулировке словаря). А по сути – Любовь с большой буквы.
О каком же воссоединении двух начал идёт речь? На каком уровне? Ведь любой человек по структуре троичен, следовательно, Он и Она должны «прилепиться» друг к другу своими триадами в целом, а не на каком-либо отдельном плане. Однако, из библейского текста, казалось бы, следует, что Бог устремляет человека к воссоединению со своей «половиной» только на физиологическом уровне («И будут одна плоть»). Нет, это неверный вывод! Ошибка заключается в слишком узком толковании понятия «плоть».
Да, в буквальном смысле это – тело, т.е. нечто плотное. Но в русской лексике существует множество примеров, когда переносное, иносказательное значение какого-либо слова имеет более широкое хождение в быту и литературе, нежели буквальное. Так, апостол Павел в 1 Кор. 15, 44 утверждает: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Иными словами, речь идёт о душевной и духовной ипостасях человеческой триады, которые Павел именует «телами». Далее, в Быт. 6, 12 читаем: «…всякая плоть извратила свой путь на земле». С пророком Моисеем (автором Бытия) как бы перекликается и другой пророк – Исайя: «…и узрит всякая плоть спасение божие…» В приведённых фрагментах слово «плоть» обозначает человека вообще, а не его физическое тело.
Следовательно, и в ветхозаветной заповеди (Быт. 2, 24), и в заповеди Христа: «… и будут два одною плотью; так что они уже не два, но одна плоть» (Мк. 10, 8) говорится о союзе, в котором Мужчину и Женщину связывает не только животный инстинкт, но и человеческое единодушие и единомыслие.
Этот небольшой экскурс в Библию необходим по следующей причине. В силу примитивного понимания, а возможно и преднамеренно, приведённые выше фрагменты Священного Писания нередко используются в качестве оправдания безудержного и неразборчивого секса. Сама по себе попытка свести Любовь только к реализации физиологической потребности, т.е., по сути, поставить знак равенства между человеком и животным, является глубоко оскорбительной для нормального человека, поскольку она направлена на дискредитацию духовного и душевного планов его триады. В сущности, это попытка выхолостить из отдельно взятого человека то, что делает его личностью и в принципе отличает его от животного индивида. Когда же для подобной мистификации используется библейский текст – это уже откровенное кощунство над верой и осквернение духовного идеала почти целого миллиарда людей Земли. (По данным официальных церковных источников, из общей численности населения мира 4495 млн человек в 1981 году 998 млн, т.е. 22 процента, исповедовали христианство [8], с. 57.)
***
Истинные мотивы столь активной в России пропаганды секса вне любви, когда достаточно сложный союз «Мужчина – Женщина» успешно вытесняется простейшей связью «самка – самец», слишком уж прозрачны. Один из таких мотивов – материальный, коммерческий. На эксплуатации человеческой физиологии можно хорошо заработать. Секс превратился в стабильную (в силу устойчивости инстинкта) и эффективную (в силу высокой степени «накала» этого инстинкта) разновидность аморального бизнеса. Всё это слишком очевидно для нас в повседневной жизни. Позволю себе привести лишь один пример регионального масштаба. Так, вологодские «жрицы любви» через местные бесплатно распространяемые газетёнки рекламируют аршинными буквами и цифрами (номера телефонов) свои услуги. При этом гарантируется их высокое качество (в соответствии со спецификой заказа) в интервале 24 часов. Но самое пикантное заключается в том, что клиент вознаграждается за состоявшийся визит… пятью бесплатными (!) бутылками пива (реклама это подчёркивает особо). Каков стимул? Любовь в компании с пивом «Толстяк»! Как это «тонко»! Предложение любви с пивной отрыжкой – не самое виртуозное в сфере провинциального секс-бизнеса: есть и похлеще. Впрочем, и этого достаточно.
Но сексуальная атака на россиянина со стороны СМИ всех видов (ТВ-программы, свободная торговля печатной и видеопродукцией, реклама и т.д.) преследует не только сиюминутную, меркантильную цель, но и цель долговременную, дальнобойную и… разрушительную. Она, к сожалению, пока сокрыта для непроницательного глаза, и в этом её опасность и коварство. Дай Бог, чтобы период, когда «видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют», был бы как можно короче. Впрочем, эта деликатная тема, имеющая прямое отношение к шкале жизненных ценностей, требует отдельного рассмотрения.
***
Возможно, читатель предположит, что автор этих строк либо сторонник платонической (в обыденном смысле) любви, изолированной от сексуальных влечений, либо безнадёжный ханжа. Отнюдь нет!
Так же, как секс не может узурпировать право называться любовью, сводя всё многообразие этого чувства к физиологии, так и любовь перестаёт быть таковой, если в ней аннулировать интимное, эротическое начало. Отказ от физической близости (искусственное воздержание) в любви есть не что иное, как издевательство над физической и психической природой человека, а точнее – двоих людей сразу. Отношения мужчины и женщины, лишённые сексуальной притягательности, могут называться чем угодно, но только не любовью: дружба, деловое партнёрство, духовное общение и т.д. Секс – уникальный компонент (да простят мне этот аналитический термин) в триаде любви, как, впрочем, душа и духовность.
Конечно, каждая из ипостасей триады Любви может существовать отдельно, вне связи с другими. (В отношении секса, живущего вне любви, уже говорилось, повторяться не стану.) Можно, например, встретить человека противоположного пола, с которым нас будет связывать глубокое взаимное уважение, симпатия, доверительность, т.е. обрести душевно близкого человека. Но если мы абсолютно не тяготеем к нему на других планах, в том числе и на физическом, то этот «душа-человек» будет нам скорее другом или кем-то ещё, но только не любимым. Возможно также общение с человеком, духовные интересы и запросы которого совпадают с нашими или дополняют их. Обмен мнениями, информацией, взаимное духовное обогащение, конечно, притягательны, но – не более того. Любимым этого человека также не назовёшь.