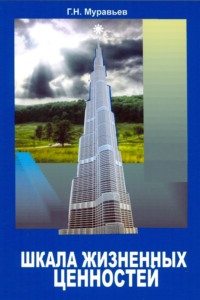полная версия
полная версияТроичность вокруг нас
Будучи средним планом (с весьма сложным «рельефом» и разветвлённым «контуром»), она разъединяет и одновременно соединяет планы крайние. В силу этого душа является воспитанницей каждого из них. И как всякий воспитанник двух учителей испытывает внутреннее влечение к ним в разной степени, так и душа человеческая тяготеет к граничным планам триады неодинаково.
В человеке одновременно живут, но не могут одновременно проявиться взаимоисключающие друг друга качества «чёрные» и качества «белые». Они порождены противостоящими по своей сущности ипостасями триады. Поэтому здесь не может быть ни мира, ни даже короткого примирения «на основе взаимных уступок», т.к. последние просто исключены. При таких резких и глубоких расхождениях сторон во взглядах несколько смягчить (не примирить!) остроту взаимного неприятия может только сильный, объективный посредник. Но наш «душевный» посредник, к сожалению, объективностью не отличается. Примыкая заведомо к одному из планов, душа усиливает его и тем самым ослабляет план противостоящий. Компромисс же сильного со слабым по природе своей невозможен. Здесь может быть только подавление, т.е. абсолютный вариант решения конфликтной ситуации.
Как часто мы, вопреки логике (голосу рассудка), оправдываем свои действия только тем, что к чему-то или к кому-то «лежит (или не лежит) душа».
***
Внешне решение нашей души выглядит как решение, принятое самим человеком и реализованное им в поступке. Что же при этом взяло верх: эгоизм или жертвенность, низкий инстинкт или высокая порядочность, страх ответственности или чувство ответственности? Всё зависит, как уже говорилось, от внутреннего голоса, переходящего порой в «крик души».
Чаще всего в этом крике слышатся терзания души, разрывающейся между духом и телом – антиподами в человеческой триаде.
В христианской традиции плоть укрощается во имя торжества духа. Апостол Павел с присущей ему категоричностью утверждает в Рим. 8, 8–13: «…Живущие по плоти Богу угодить не могут». И далее: «…если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете».
Уже на стадии усвоения исходной информации (например, при встрече с дилеммой, от решения которой, увы, не уйти) сказывается привязка души к одному из планов триады. Конечно, неизбежное «быть или не быть?» будет мучительным по-разному для разных людей в одной и той же ситуации: для одних – долгие терзания, для других – почти мгновенное решение.
Первые, пытаясь найти решение типа «и волки сыты и овцы целы», безнадёжно и мучительно ищут компромисса с собой. Душа, подверженная соизмеримому влиянию обоих граничных планов, не имея чёткого ориентира в триаде (стабильной шкалы жизненных ценностей), мечется от одного плана к другому и, наконец, робко пристаёт к более сильному.
Вторые, «нутром чуя» невозможность «срединного» решения проблемы, доверяются голосу своей души и принимают абсолютное решение совершенно безболезненно. Замечу, что для нас в данном случае важна не нравственная оценка решения, а скорость и уверенность, с которыми это решение человек принимает.
Однако и после принятия решения, и даже его воплощения люди, для которых мотивы и доводы обоих планов почти равноценны, не находят себе покоя, сомневаясь в правильности содеянного. «В человеке борются два чувства», – вот трафаретная формулировка подобного душевного состояния. Терзание это может оказаться столь сильным, что иной человек подводит себя к экстремальному решению: уходу из жизни или кардинальному изменению её образа. Отшельничество, монашество, преднамеренный поиск смерти на войне и риск собой во имя служения Идее – хотя и не частые, но наглядные тому примеры.
Апостол Иуда Искариот, имя которого стало символом вероломства, раскаявшись в своём предательстве, «пошел и удавился» (Мф. 27, 3–5). Апостол Пётр, трижды отрёкшийся от Учителя в течение одной ночи, «…выйдя вон, горько заплакал» (Лк. 22, 54–62). И до конца дней своих вершил он подвиг духовный, мужественно служа Христовой идее Царства, о чём повествует новозаветная книга «Деяния апостолов». Изнуряющее самообвинение и кратковременное самоуспокоение могут поочерёдно «раскачивать» жизнь человека в течение многих лет. (Внутренние весы не в состоянии успокоиться из-за постоянного смещения центра равновесия.) Какой уж тут компромисс с собой!
***
Но ведь существуют же в изобилующем количестве примеры поведения человека, напоминающие компромисс с собой. Эта видимость создаётся, когда человек пользуется принципом компромисса («жертвую малым во имя большего, частным – во имя общего») в ситуациях, далёких от компромисса.
В интересующих нас случаях этот принцип незаметно подменяется иным – «одним выстрелом убить двух зайцев», т.е. попытаться одним поступком удовлетворить противоречивые запросы крайних планов триады таким образом, чтобы жить со спокойной душой. И живут! Живут вокруг нас, и мы среди них, будучи подчас рационально-благородными и порядочными в меру.
Суть такого «универсального» решения заключается в отделении незначительной части интересов одного плана якобы в пользу другого. Внешне это выглядит как уступка (допустим, плана физического в пользу плана духовного), но мы-то знаем, что сие невозможно. Как уже отмечалось, эти планы, непримиримые по своей природной сути, разнесены, кроме того, по «разные стороны» души, разъединяющей их и соединяющей одновременно. Так вот, именно она и поглощает все так называемые уступки. Именно ей, во имя её комфортного состояния и приносятся эти «жертвы», ибо только состояние души человека и определяет в конечном счёте степень его удовлетворённости исходом той или иной жизненной ситуации. Человек счастлив или несчастлив ровно настолько, насколько комфортно или дискомфортно его душе, независимо от состояния физического плана. Поэтому душа не может быть нейтральной, она будет стремиться к комфортному состоянию. И в этом смысле, если прибиваться к упомянутой выше магнитной модели, ведёт себя, как стальной шарик. Будучи изначально размагниченным, он после тесного и длительного контакта с одним из магнитных полюсов, намагничивается и теперь уже сам активно влияет на общую картину магнитного поля.
Так и душа, сформированная под влиянием более сильного плана, достигнув «совершеннолетия», начинает вершить судьбу триады. Напитанная энергией нижнего плана, душа становится не только судьёй, тонко подыгрывающим ему, но и его адвокатом и наставником в тех ситуациях, когда нижний план идёт якобы на уступку плану духовному. Дело в том, что материальный план триады, основанный на бескомпромиссном животном инстинкте, просто «не додумался» бы вообще поступиться хоть чем-то своим, т.к. живёт по принципу: «что моё – то моё».
Но средний план, в силу структуры триады, находится и под воздействием плана верхнего, интеллектуального. А поэтому душа, естественно, и тоньше, и гибче, т.е. изощрённее грубого физического начала. Но на что же именно направлена эта душевная сообразительность? В данном случае – только на интересы нижнего, подзащитного плана, хотя и в завуалированном виде, конечно. Эта вуаль слетит, если всё перевести на видимую плоскость, т.е. в действия реальной личности. По замыслу хитрой заземлённой души, незначительная уступка в пользу плана духовного, да ещё сделанная прилюдно, (например, через телевидение) в конечном счёте должна окупить себя.
Внешне, конечно, всё напоминает благородное движение нижнего плана к компромиссу с верхним, этакую позитивную инициативу человеческой души. Но видимое – всего лишь ширма. А сокровенный расчёт весьма прост: с помощью внешне благородного жеста повысить авторитет (в новомодном варианте – рейтинг) в глазах окружающих, что приведёт человека в состояние глубокого самодовольства, желаемого душевного комфорта. Кроме того, этот дешёвый в прямом и переносном смысле фарс может принести, как и всякая реклама, некоторый материальный успех, что с избытком компенсирует изначальные, пусть даже совсем мизерные, уступки. Налицо плодотворный союз материального и душевного планов.
Не только прилюдная демонстрация «высокой» морали оборачивается в конце концов победой нижнего плана (в союзе с приниженной душой) и поражением плана духовного. Псевдоблагородная уступка нижнего плана с не меньшим успехом может явить себя и в келейных условиях. Например, чтобы оказать ощутимую помощь другу или очень близкому человеку, попавшему в беду, необходимо расстаться со значительной частью своих материальных благ или полностью от них отказаться. Объективно – это возможно. Однако чаще бывает иначе. Дающий, жертвуя «от щедрот своих» нечто несоизмеримо малое, почти символическое, считает, что не просто жертвует, а вершит благодеяние и даже претендует на ответную благодарность.
При этом душа, очерствевшая и ставшая плотной и тяжёлой, оправдает намерение родственного ей нижнего плана, шепнув ему: «другие и этого не дали бы». (Воистину, иное благодеяние бывает оскорбительнее его отсутствия.) Итак, благодетель спокоен и весьма доволен собой: максимум душевного комфорта при минимуме затрат на его обретение. Что ж, очень выгодная сделка инстинкта и нравственности, приспособившейся к нему. Продуктом их совместной деятельности является заурядная унизительная подачка в красивой упаковке бескорыстия и благого намерения. К тому же и этот жертвенный кусочек блага возвращается к «подателю сего» как бумеранг. Видимо, нет смысла приводить примеры: их «вокруг нас» вполне достаточно. И, судя по реальностям нашего времени, станет ещё больше.
***
Однако в противоборстве планов верх может одержать и план духовный. Не будем лукавить: в настоящее время такое случается «вокруг нас» относительно редко, являясь в большей степени исключением, нежели правилом. Животное начало в человеке пока что остаётся достаточно сильным (не у всех людей, конечно), и механизм управления инстинктом не всегда справляется со своим «подопечным».
Но настойчивый и хорошо подготовленный наставник и не надеется сходу получить желаемый результат: он будет действовать последовательно и методично, добиваясь своей цели. Вот так же, в микродозах, воздействует и сильный духовный план на душу человека, выводя её из-под чрезмерного влияния плана физического. Раскаянье человека в поступке, который был совершён под воздействием плана низшего, является первой, но весьма внушительной победой плана высшего.
Весьма полезно пережить состояние души, которое предельно откровенно описал библейский пророк Иезекииль (Иез. 36, 31): «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши», а спустя примерно две с половиной тысячи лет, – и А.С. Пушкин:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю…
А отсюда – недалеко уже и до благородного (сегодня это слово звучит как анахронизм) деяния, пусть даже и не слишком значительного внешне. В конце концов две лепты бедной вдовы (Лк. 21, 2–4) перетягивают всё то, что другие «от избытка своего положили».
Здесь, как и в варианте с планом физическим, цель в конечном счёте та же: достижение комфортного состояния человеческой души. Однако «качество» этого комфорта, а также его источники и методы достижения принципиально иные.
Душа заземлённая радуется успешным, хотя и безнравственным подчас поступкам человека на физическом плане. Это – радость захвата и торжество принципа «не важно действие, а важен результат». Но если душа станет соратницей высокого духовного плана, то обретение ею полного удовлетворения станет возможным только через самоотдачу, радости – через жертвенность. Достичь победы духа над инстинктом можно только при условии, провозглашённом Христом: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 33). Иными словами – одно из двух, среднего не дано.
Итак, нельзя соединить «договором на основе взаимных уступок» материально-физический и духовный планы триады, т.к. они различны по своей природе, и, значит, компромисс с собой не возможен в принципе.
Триада в любви
«Любовь – чувство, трудно поддающееся формальному определению. Любовь как интимное и глубокое чувство может быть устремлено на другую личность, человеческую общность или идею». Так формулирует понятие «любовь» Словарь по этике [6]
Любовь к ближнему
Читаем фрагмент из Евангелия от Матфея (22, 36–40): «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: Сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
Несмотря на отдалённость приведённых выше литературных источников друг от друга идеологически и во времени, они в принципе одинаково характеризуют объекты любви – центры её устремления и направленности, хотя и по-разному их называют. Но понятия эти близки по смыслу, а посему общее подобие приведённых выше фрагментов не нарушается. Сравним их тексты.
Так, понятия «Бог» и «Идея» родственны. Бог и есть идея, причём идея абсолютная. «Другая личность» соотносится с «ближним». В евангельской заповеди, правда, отсутствует понятие «человеческая общность». Но это подразумевается, т.к. библейский закон в целом обращён к общности, израильскому народу – объекту отеческой Любви Творца: «Я – отец Израилю», – провозглашает Господь в Иер. 31, 9.
Как уже отмечалось, понятия «личность» и «ближний» являются соотносимыми, но не тождественными: ближний – всегда личность, но не каждая личность является нашим ближним. Впрочем, есть и принципиально иное мнение (правда, непоследовательное, противоречивое), культивируемое православием.
Понятие «ближний» является отправной точкой человеческих взаимоотношений, освящаемых любовью. Поэтому вопросы: «А кто мой ближний?» и «Кому я довожусь ближним?», а точнее – ответы на них, чрезвычайно важны для нас. Обратимся же в поисках этих ответов к Библии как «опорному» источнику, выбранному для данной работы.
***
Ещё за полтора тысячелетия до пришествия Христа Господь, давая через Моисея нравственные и другие заповеди Израилю, наставляет: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19, 18).
Эта нравственная заповедь, а точнее – её вторая часть, резко выделяется среди других, носящих в целом запретительный характер. Суть их укладывается в короткую формулу: «Не сотвори другому зла». Именно это условие было необходимым и вполне достаточным для мирного сосуществования в рамках единого народа двенадцати израильских племён (колен).
На данном фоне божественное наставление «возлюби» воспринимается не как основа, моральный принцип бытия, а как его вершина, пока что недосягаемая. Но подъём к этой высшей нравственной планке автоматически приводит к исполнению всех «нижележащих» моральных норм, что и утверждает апостол Павел в Рим. 13, 9–10: «Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого», и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона».
Таким образом, заповедь любви, открываемая в Ветхом Завете через «закон и пророков», переходит в Новый Завет, становясь его нравственной основой, что и подчёркивает Христос в беседе с фарисеем (Мф. 22, 35–40).
Естественно, формулировки заповеди любви к ближнему в обоих Заветах одинаковы, ибо Христос цитирует фрагмент ветхозаветного стиха. Но заповедь, данная Израилю через Моисея, предваряется фразой: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Иными словами, понятия «сыны народа твоего» и «ближний твой» далеко не одно и то же: для первых – достаточно отсутствия злобы и мести, а вторых – надо любить, как самих себя.
Апостол Павел в «Послании к евреям», пересказывая фрагмент Книги Иеремии (Иер. 31, 34), пишет: «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа…» (Евр. 8, 11). В параллельном же месте к данному тексту (Ис. 54, 13) эти категории людей объединены в понятие «сыновья твои» (народа Израиль). Как видим, для Павла «сыны народа», «ближние» и «братья» – не одно и то же.
В формулировке Христа подобное разделение отсутствует; точнее, отсутствует само понятие «сыны народа твоего». Это вполне естественно, ибо Евангелия призваны к научению всех народов (Мф. 28, 19–20). Но понятие «ближний твой» остаётся, тем не менее, весьма проблематичным. Причём не только для нас, ныне живущих, но и для современников Иисуса Христа. Об этом свидетельствует Его притча о милосердном самарянине (Лк. 10, 30–37), которую Учитель говорит в ответ на прямой вопрос: «А кто мой ближний?» (Лк. 10, 29). Интересно, что этот вопрос задаёт не простой, тёмный израильтянин, а законник, т.е. толкователь еврейского закона, знающий, безусловно, ветхозаветную заповедь о любви к ближнему.
Я не стану цитировать полностью текст довольно объёмной евангельской притчи, уповая на любознательность читателя, приведу лишь итоговый вопрос Христа, ответ законника и вывод из притчи: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди и ты поступай так же» (Лк.10, 36–37).
Вдумаемся в постановку вопроса, это очень важно. Христос спрашивает: кто из троих человек, встретивших раненого иудея, оказался ему ближним? Но Христос не ставит вопроса: кому из этих троих он (пострадавший) оказался ближним?
В общем случае, ответы на вопросы: «Кто мне ближний?» и «кому Я ближний?», вместе взятые, не подразумевают одно и то же лицо. Иными словами, становясь кому-то ближним, я, в принципе, ещё не обретаю в этом человеке ближнего для себя. Чтобы этот круг замкнулся нравственно и энергетически (а в этом, видимо, и заключается глубинная суть любви), необходимо, как минимум, выполнение следующего условия: человек, для которого волею судеб и в силу нравственных устоев я стал ближним, должен прочувствовать это и признать меня таковым. И тогда в соответствии с буквой и духом заповеди он должен полюбить меня, признанного ближнего, как самого себя.
Заключающие притчу вопрос Христа и ответ на него еврейского законника (ответ, одобренный Учителем) являются своего рода рецептом того, как стать ближним (но не обрести ближнего!). Для этого надо просто совершить во имя другого человека благородное действо: оказать посильную помощь, простить неблаговидный поступок, пожертвовать частью своих благ без красивого прилюдного жеста, конечно, и т.д. Иными словами, оказать милость. «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак. 2, 13).
Итак, из заключительной части притчи следует, что ближний – это не любой и каждый вообще, а оказавший мне милость, т.е. обративший ко мне своё сердце. Надо только суметь услышать этот сердечный голос, оценить не столько само благодеяние, сколько намерение и желание его совершить. И тогда мир получит ещё одну пару ближних, взаимно любящих людей.
***
Казалось бы, притча Христа даёт ясный и вполне однозначный ответ на вопрос: кто есть ближний? И тем не менее «Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия» разъясняет: «Ближними нашими должно почитать всех, потому что, все – созданья единого Бога и произошли от одного человека. Но те, которые одной веры с нами, должны быть особенно близкими нам, как дети одного отца небесного по вере Иисуса Христа» [7], с. 441.
Что ж, в общем случае любое мнение по интересующему вопросу требует уважения и внимательного отношения к себе, тем более оно не может быть отвергнуто «с порога», когда исходит из авторитетного источника. Поэтому следует со всей серьёзностью отнестись к выводам архимандрита Никифора (автора энциклопедического труда), духовного писателя второй половины девятнадцатого века, настоятеля Высокопетровского монастыря в Москве. В силу того, что выводы эти приведены в издании, разрешённом Духовно-цензурным комитетом, следует считать, что автор заявляет не столько от собственного имени, сколько от имени конфессии, которую он представляет.
Обращает на себя внимание тот факт, что доводы относительно понятия «ближний», православный автор не подкрепляет главным аргументом – евангельской притчей о милосердном самарянине. Более того, он даже не упоминает о ней в своих рассуждениях. Впрочем, это не вызывает удивления, поскольку выводы архимандрита находятся, мягко говоря, не в полном соответствии с сюжетом и центральной мыслью притчи.
Да, действительно, все люди являются созданиями единого Бога и произошли от общих прародителей – Адама и Евы. Но, несмотря на это, мы видим, что не только в глобальной общечеловеческой семье, а даже в семье обычной человеческой отношения между её членами подчас трудно назвать родственными. Более того они подчас откровенно враждебны. В такой обстановке ближний родиться не может, т.к. милостью здесь, образно говоря, и не пахнет. Наверное, каждый или почти каждый может привести примеры подобных отношений из жизненной практики – собственной или своих друзей и знакомых. Кстати, можно вспомнить и библейские примеры «взаимной любви» родных братьев: Каина и Авеля, Соломона и Адонии и т.д. А уж исторических примеров и не счесть. Нет, наличие общих родителей, прародителей и единого Творца не есть аргумент в пользу того, чтобы «ближними нашими должно почитать всех».
Но, видимо, автор и сам не чувствует полной уверенности в своей позиции. Так, вслед за призывом почитать ближними всех, он сразу же оговаривается, делая особое исключение для тех, «которые одной веры с нами». Заметим, проведя параллели с притчей Христа, что, как это ни парадоксально, но именно иноверец, т.е. не иудей по вере, стал ближним последнему, явив ему свою милость. Причём самаряне были не просто нейтральными иноверцами, а иноверцами презираемыми, «так что само название Самарянин считалось у иудеев бранным и презрительным словом», – гласит та же «Библейская энциклопедия» [7], с. 618.
Следовательно, религиозная принадлежность не является критерием для определения понятия «ближний», что и подчёркивает Христос, вводя в притчу наряду с двумя равнодушными единоверцами (более того – священнослужителями) милосердного противника по вере.
Дифференцируя всех людей, т.е. всех ближних (с точки зрения автора, конечно) по признаку: «единоверец или иноверец», архимандрит Никифор тем самым выделяет среди них категорию «особенно близких нам». Иными словами, это – не иначе, как «ближние из ближних». И если уж нам предначертано возлюбить ближнего (просто ближнего), как самого себя, то, как же тогда мы должны возлюбить ближнего из ближних, т.е. привилегированного ближнего? И что или кто является мерилом такой любви? Вряд ли разделение ближних по сортам, да ещё на конфессиональной основе, способствует веротерпимости в отношении иноверующих.
Конечно, можно было бы и не комментировать столь подробно позицию (православного!) автора, поскольку для возражения достаточно привести только один факт. Христос своим вопросом: «Кто из этих троих был ближним?» прямо выделяет такового из действующих лиц притчи, а не почитает всех троих ближними, как должно быть по архимандриту Никифору.
Таким образом, ближний – понятие дифференцированное, и любви нашей на уровне «как самого себя» достоин далеко не любой и каждый. И чтобы обрести ближнего, надо прежде всего стать им, как и поступил милосердный самарянин из Христовой притчи, которая, к большому сожалению, редко бывает востребованной нами в повседневной жизни. Мы скупы на добрые дела и, как следствие, редко и трудно становимся ближними. Но тот, «кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 4, 17). И чтобы удержать человека от пополнения своих «греховных запасов», апостол Пётр предлагает ему простой и доходчивый рецепт: «Уклоняйся от зла и делай добро…» (1 Пет. 3, 11).
***
Теперь, представляя себе, кто есть ближний, попытаемся понять – как же возлюбить его? «Как самого себя», – гласит ветхозаветная заповедь (Лев. 18, 19), усиленная Христом в Завете Новом (Мк. 12, 31). Более того – именно этот уровень любви является необходимым, а ещё более того – одним из главнейших условий обретения жизни вечной: «…так поступай, и будешь жить», – заканчивает свою притчу Христос.
В Новом Завете, в отличие от Ветхого, объектом любви становятся и брат (в обобщённом смысле этого слова), и враг (Мф. 5, 44). Призыв: «любите!» получает очень широкую направленность, но «любите, как самого себя» – адресуется только ближнему. (Судя по Еф. 5, 33: «Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя», апостол Павел считает ближними людей, составляющих супружеские пары. На мой взгляд, это – лишь благое пожелание.)