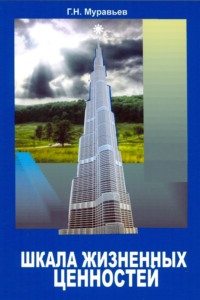полная версия
полная версияТроичность вокруг нас
Но, ставя перед человеком главную задачу – быть воплощённой моделью Бога на Земле, нести в себе Его образ и подобие, Всевышний обеспечил ему и возможность выполнения этой вселенской задачи. Он дал человеку (помимо «дыхания жизни») универсальный язык общения как с миром божественным, так и с миром тварным. Без него невозможно было бы человеку выполнить роль посредника, среднего звена между этими мирами. Таким языком является опять же Дух Святой, полученный человеком непосредственно из божественных уст и трансформировавшийся в «дух человеческий, живущий в нем» (1 Кор. 2, 11). Благодаря этому бессмертному духу человек чувствует, думает, стремится и, по словам «отца протестантизма» М. Лютера, в состоянии объять невидимое и вечное. Благодаря Духу Святому происходит постоянный энергоинформационный обмен между божественной троицей и человеческой триадой.
«Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит». Именно голос, т.е. язык слышен в Духе Святом. Но уразуметь это способен далеко не любой и каждый: «так бывает со всяким, рожденным от Духа», – поясняет Христос фарисею Никодиму (Ин. 3, 8).
В день Пятидесятницы собравшиеся вместе апостолы «исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им просвещать. Собрался народ и пришел в смятение: ибо каждый слышал их говорящих его наречием» (Деян. 2, 4–12). Итак, каждый слышал «собственное наречие, в котором родились», несмотря на то, что апостол проповедовал на каком-то одном языке по наущению Духа Святого.
Этот фрагмент ярко и образно раскрывает уникальное свойство Духа Святого – быть языком, единым для мира горнего и мира дольнего, ибо каждый из свидетелей этих новозаветных чудес не просто слышал «что-то», но слышал «говорящих о великих делах Божиих.
Творческая деятельность человека – главный критерий богоподобия
Вернёмся к вопросу о нише, занимаемой человеком в троичной системе Бог – Человек – Природа.
С одной стороны – принадлежность человека к животному миру. Она очевидна (временами – даже более чем!). Инстинкты прочно привязывают человека к исполнению поведенческого комплекса, диктуемого самосохранением – индивидуальным и видовым.
С другой стороны – человек, изначально унаследовав образ Бога, в дальнейшем обрёл и Его подобие, вкусив от древа познания добра и зла. «Образ» выразился в троичности природы человека. А в чём же проявилось «подобие»? В каких признаках? Во внешнем, «портретном» сходстве? Нет, конечно, ибо «Бога никто никогда не видел» (I Ин. 4, 12). Тогда в чём же? Естественно, в каких-то сокрытых критериях.
Всякого рода версий по этому поводу было выдано немало: от сходных до полярно противоположных. Мне лично ближе версия сотворчества человека с Богом, каждый из которых созидает, естественно, на уровне, соответствующем его «статусу».
Понятие «сотворчество» в широком смысле подразумевает работу на общую идею, где каждый из участников этого согласованного творческого процесса занимает свою нишу, отрабатывает задачи своего уровня под эгидой генерального автора идеи. «Человек увлекает за собой природу в своей эволюции, Богочеловек увлекает за Собой человечество в своём восхождении к Божественному миру, к которому в конце концов всё стремится и в чём может осуществить свой смысл» [27], с. 133.
Бога и человека связывает идея эволюции, и в осуществлении этой идеи они являются сотворцами. Реализуется же идея эта в форме божественного, грандиозно разворачивающегося во времени и пространстве эксперимента, в котором главным действующим лицом является человек.
В мир, функционирующий по биологическим законам и управляемый только инстинктами, Бог внедряет существо (человека), обладающее одновременно как инстинктами, так и механизмом управления этими инстинктами. Таким образом, наряду с творениями Бога, воспринимающими среду обитания только животным началом, на земле появляется существо, воспринимающее окружающий мир троично: биологически, эмоционально и разумом. Человек, модель Творца, размещается в неразумном мире для того, чтобы «возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3, 23). Иными словами, он должен творчески воздействовать на окружающий мир, совершенствуя его всею своею триадою. Но Бог не знает результатов этого воздействия, ибо Он не ведает, как вообще поведёт себя Человек в земных условиях. (Похоже, что уже в эдемских условиях человек доставил Творцу немало хлопот именно своей непредсказуемостью. В «Смежной теме № 2» этот вопрос и божественный «План перемещения человека из Эдема на землю» будут рассмотрены детальнее.) Но главное – Богу неизвестен характер взаимодействия биологического и духовного начал, вживлённых Им в человека. Следовательно, от Него сокрыты и возможные тенденции к изменениям человеческого бытия и сознания: или эволюции к высшим идеалам, или сползанию к животному миру. Всё это Творец и стремится постичь в результате длительного эксперимента, наблюдая за поведением Своего «образа и подобия» (человечества в целом) в многообразных земных условиях. Результаты наблюдений будут введены в базу данных «божественного компьютера»; обобщённая информация поступит в «копилку Мирового Разума». Таким образом, человек нужен Богу в не меньшей степени, чем Бог – человеку.
***
Я вполне отдаю себе отчёт в том, что приложение к всемогущему и всеведущему Богу понятия «эксперимент», суть которого сводится к познанию неведомого, на первый взгляд представляется кощунственным. Более того, предвижу, что глубоко религиозные люди узрят в слове «эксперимент» оскорбление святыни: издевательство над якобы всеведущим Творцом, отрицание Его провидческих способностей и т.д. Они возмутятся и ролью якобы подопытных кроликов, отводимой им в этом эксперименте. В общем, обвинений в мой адрес будет, видимо, вполне достаточно. Что можно ответить на эти предполагаемые упрёки?
Мне совершенно непонятно, почему самолюбие иных верующих должна шокировать их творческая роль в божественном эксперименте, в то время как их самолюбие совершенно не страдает от неизбежного исполнения роли лабораторного животного в унизительных опытах людей (например, экономические, социальные, культурные и др. «новации» перестроечного и постперестроечного времени). Видимо, потому, что эти издевательства либо просто не замечаются, т.к. их умело камуфлируют под общенародное благо, либо они воспринимаются как неизбежность, с безысходной покорностью, что вполне оправдано и даже предписано заповедями апостолов Петра и Павла. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа…» (I Пет. 2, 13). «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, I).
Упрёки же в недооценке божественных возможностей, мягко говоря, несостоятельны: речь ведь идёт о совершенно очевидном, о том, что знания Бога о человеке, Им же созданном, далеко не безграничны. Бог – всемогущ, но не всеведущ. Достаточно сравнить между собой фрагменты Быт. 1, 31 и Быт. 6, 6–7, чтобы убедиться, судя по высказываниям Самого же Творца, в полной непредсказуемости для Него поведения человека. Если в конце шестого дня Творения «увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма», то спустя определённое время (через три библейских главы), «сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человеков до скотов, и гадов и птиц небесных; ибо Я раскаялся, что сотворил их». (Как видим, несовершенным, с божественной точки зрения, оказался не только человек, но и весь сотворённый Богом мир.) Раскаяться в своём неведении может несовершенный человек, но совершенный (всеведущий и всезнающий) Бог – это уж слишком!
Если в качестве главного критерия «подобия» принять способность человека к творческой деятельности, то неизбежно следует признать у человека-творца и наличие свободы воли (свободы принятия решения и воплощения его в действие) – условия, без которого никакой творческий акт просто невозможен. Это качество Бог передаёт человеку с дыханием жизни.
Свобода воли – это духовная зона, которую Бог создал сугубо для человека. В неё не вхож даже Сам Создатель. Полновластным хозяином в этой зоне является только человек, перед которым Бог ставит те или иные задачи, но не знает заведомо решения, которое человек примет. При этом в оценке действий человека и Своей реакции на человеческие поступки Бог абсолютно свободен. Он может даже уничтожить Своё творение (Быт. 6, 7), но не может сделать его иным, ибо «помышление сердца человеческого – зло от юности его» (Быт. 8, 21). Потому и зло, что эти помышления и поступки, рождённые ими, непредсказуемы, ибо возникли в зоне, «непрозрачной» для Бога.
Конечно, свобода воли Бога соотносится со свободой воли человека, полученной им от Бога, в той же пропорции, что и масштабы творческих задач, решаемых ими. И если масштабы творческой деятельности Бога не ограничены в пространстве: «Се, творю все новое» (Отк. 21, 5) и во времени: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5, 17), то размах творчества человека лимитирован «обрабатываемой» им гранью эволюции. Но в пределах этой грани Бог замыслил человека не роботом с заложенной в него программой и пусковой кнопкой, а существом самостоятельным, свободным и троичным во «всей полноте и целости». В противном случае человек бы «не был образом и подобием Творца, он был бы игрушкой Творца» [36], с. 10.
Экзамен у древа познания. Торжество духовного начала
В Библии творческое сотрудничество Бога с человеком начинается уже в Эдемском саду, куда Он помещает его, чтобы этот сад возделывать и хранить (Быт. 2, 8, 5). Ясно, что речь идёт о большем, чем уход за деревьями и цветами. Одним из призваний человека является установление и поддержание гармоничных взаимоотношений между всеми земными царствами природы: минеральным, растительным, животным. Эдемский сад (рай) предстаёт в качестве своеобразного полигона (с облегчёнными условиями обучения), где человек, взаимодействуя с Богом, совершенствует и окружающий мир, и свои с ним взаимоотношения. Эта практика потребуется человеку сразу же, как только он сменит благословенный Богом рай на проклятую Богом же землю. Но, совершенствуя всё вокруг себя, человек в первую очередь должен совершенствоваться сам, стремясь приблизить «образ и подобие» к Оригиналу. Готов ли человек к самостоятельному продвижению по спирали эволюции? «Бог, который изображается вовсе не всевидящим и всезнающим, а строгим, но справедливым судьёй» [29], с. 162, не знает ответа. Он устраивает человеку экзамен у древа познания добра и зла, чтобы видеть, как тот распорядится дарованной ему свободой воли.
Человек должен продемонстрировать Творцу способность к принятию самостоятельного устойчивого решения в нелёгкой ситуации выбора. Эту ситуацию, как следует из Библии, создаёт триада «Бог – человек – змей», в которой:
– Бог изначально триедин (Бог-отец есть Творец всего существующего через Бога-Сына оживотворяющей силой Бога – Духа Святого);
– человек, созданный по образу Бога, наследственно триедин (дух, душа, тело) «во всей полноте и целости»;
– змей – сущность, относительно которой в [29], с. 162 говорится: «В христианской традиции прочно утвердилось отождествление змея с дьяволом, сатаной, принявшим лишь обличье змея». Если принять эту версию, то змей становится антиподом Бога – сущностью, пребывающей в противостоянии Творцу. Триединство её проявляется в крайне уродливой форме: ипостась духа сориентирована «наоборот» («Я отрицаю всё – и в этом суть моя», – декларирует Мефистофель своё кредо); душа деформирована эгоцентризмом; возможности тела гипертрофированы, оно может принимать вид змеи, дракона, и даже Ангела света (2 кор. II, 13–14). (В смежной теме № 2 будет рассмотрена иная версия относительно роли змея-сатаны вообще и его «соблазняющего монолога», обращённого к Еве, в частности. В этой связи я настоятельно рекомендую читателю, не знакомому с библейской книгой Иова, внимательно прочитать хотя бы её первые главы.)
Как видим, каждое звено Эдемской триады имеет, в свою очередь, три ипостаси, что делает её трижды троичной, т.е. триадой из троичностей. Так что «райская жизнь» довольно сложна по своей структуре.
В сцене у древа познания Ева оказалась в ситуации выбора между божественным запретом (Быт. 2, 16–17) и дьявольским соблазном (Быт. 3, 2–6). Триада человека оказалась «плотно зажатой» между триадами Бога и змея-сатаны. Принятие Евой решения под воздействием двух полярно противоположных аргументаций и последующее воплощение его в поступок – и есть экзамен на зрелость свободы воли, результаты которого нам известны из Быт. 3, 6. Само же древо познания добра и зла становится символом троичности рая, где одновременно пребывают силы добра, силы зла (даже в раю!) и нейтральный объект – человек, на которого эти силы воздействуют.
***
В данном библейском сюжете Ева предстает ПРАМАТЕРЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОСТУПКА. Именно поступка! Не рефлекторного действия в силу инстинкта или наработок, а действия осознанного, мотивированного. Она демонстрирует впервые в истории (библейской, по крайней мере) действие свободы воли, данной человеку Богом. Ева является третейским судьёй в первом библейском поединке Бога и его антипода. Именно её решение определило дальнейшую судьбу человечества. Честь и хвала ей, «матери всех живущих» (Быт. 3, 20), в которой духовное начало одержало убедительную победу над животным инстинктом – страхом перед физической смертью. (Главный довод – «потому что дает знание» – сформулирован в Быт. 3, 6.) Поступок Евы знаменует обретение человеком, обладавшим до тех пор только образом Бога, Его подобия.
Итак, человек приходит на «землю, из которой он взят», как образ и подобие Творца, как полноценный участник божественного эксперимента.
ТРОИЧНОСТЬ ВОКРУГ НАС
В физической природе мы находим три
главных мира и царства…
В каждом царстве снова имеются три
элемента, соответствующие их планам…
Так как закон аналогии проникает
всю природу, то и в человеке мы
находим три главных элемента,
соответствующих трём мирам…
С. Тухолка
Человек по воле Бога пришёл из Эдема в мир сей не с пустыми руками: в его «багаже» среди ценностей, обретённых им в раю, есть свобода воли, знание добра и зла. Он сохранил троичную организацию и связь с Богом (через ипостась Духа). Иными словами, человек сохранил образ и подобие Творца. Следовательно, его сотворчество с Богом продолжается и в новых условиях. Более того, условия существования человека на неприспособленной земле способствуют активизации его творческого начала. Если комфортные условия жизни в Эдеме были обеспечены человеку Богом (Быт. 2, 8, 9), то на суровой земле, способной только произрастить «терние и волчцы», человеку приходится всё начинать с нуля. Поле деятельности огромно, точек приложения творческих способностей более чем достаточно.
Троичное восприятие троичного мира
Прежде, чем что-то сотворить в новом для себя мире, человек должен был как минимум выполнить три условия. Во-первых, познать характер и закономерности этого мира. Во-вторых, осознать (взвесить) свои возможности и соотнести их с потребностями (целью). В-третьих, выработать конкретные практические решения по сотворению (совершенствованию) «чего-либо».
Триада человека в троичном мире
Будучи существом троичным по природной своей структуре, человек естественным образом соединяется с троичной структурой земной природы – её минеральным, животным и растительным миром, занимая при этом высшую ступень в составе биосферы.
И, естественно, «возделывая землю, из которой он взят», т.е. творчески приспосабливая конкретные земные условия (прежде всего – природные), делает это по троичной схеме, являя собой «меру всех вещей». Более того, созданные человеком социальные институты и правила общежития, наработанные критерии оценки добра и зла, сформированная шкала жизненных ценностей – всё это по сути своей троично. Это и естественно, т.к. «лепилось» с единой модели, по единому троичному принципу: приём исходной информации – анализ – решение.
Но человек способен не только активно влиять на среду, видоизменять и формировать условия существования (природные и социальные): он может и сам адаптироваться к ним. Такая гибкость поведения может быть объяснена родственностью «по линии троичности» структур человека и остального мира, созданного Богом.
В повседневной жизни изначальное восприятие внешних объектов и ситуаций происходит на одном из уровней человеческой триады. Вслед за тем к процессу подключаются и остальные её планы. Итог зависит от характера ситуации и особенностей триады человека.
Так, инстинктивное восприятие события, в силу своего быстродействия, выстраивает линию поведения человека как бы автоматически. Например, в ситуациях типа «встреча с грабителями» поведение человека в принципе сводится к трём вариантам: убежать; сопротивляться; просить о пощаде (откупиться кошельком). Инстинкт мгновенно подскажет решение, хотя и не всегда верное (если при этом совершенно отключается мыслительный план).
Интуитивная ориентация в троичной ситуации присуща человеку, находящемуся в определенных условиях (наличие дилеммы, альтернативы и т.п.). Причём решения, подсказанные интуицией, подчас совершенно неожиданные, оказываются сильнее и правильнее логических выводов и умозаключений, например, нахождение третьего варианта из двух возможных. Это полуосознанная по природе своей реакция души на информацию.
И, наконец, ситуация может быть воспринята вполне осознанно, с позиций присущего конкретному человеку уровня духовности. Способ восприятия воздействий внешнего мира «через дух» и есть инструмент, данный Богом человеку для управления инстинктом и контроля над ним. В этом, как следует из предыдущей главы, и кроется смысл божественного эксперимента, точнее – его продолжения в «постэдемских» условиях. В прикладном аспекте подход к троичному миру через человеческую триаду является предпосылкой для выстраивания шкалы жизненных ценностей (материальных, нравственных, духовных) – поведенческого кодекса личности и общества.
Итак, человек способен оценить троичность «мира сего» (как, впрочем, и его «отдельных зон» – объектов, ситуаций, состояний, аспектов, процессов и т.д.), благодаря триединству своих ипостасей.
В процессе троичной обработки каждая ипостась человеческой триады ищет как бы свой аналог в обрабатываемом троичном мире, находит его и работает с ним в «жесткой сцепке». А поскольку человеческая триада соединена с божественной, то любые поступок, мысль (слово) или эмоциональная реакция доходят до Бога.
Образно говоря, информация о поведении человека (на всех его планах) поступает по этим каналам связи в божественный «компьютер» с колоссальным объёмом памяти. Эта информация систематически пополняет базу данных о ходе эксперимента, проводимого Богом на земле. Так что, благодаря соединению триад Творца и творения, жизнь человека находится под постоянным и всепроницающим контролем со стороны Высших сил. Видимо, это и утверждает Христос, говоря своим ученикам: «у вас же и волосы на голове все сочтены (Мф. 10, 30). (Кстати, «Книга жизни» в Откр. 20, 12 напоминает сборник обработанных компьютером информационных материалов о жизни каждого человека.)
За тысячелетия своей истории человечество прошло и ещё пройдёт (см. «Откровение Иоанна Богослова») длинный путь спадов и подъёмов: достаточно прочитать оба библейских Завета. Да и после искупительной смерти Мессии условия пребывания человека на грешной земле менялись, как в калейдоскопе. Рушились одни идеалы и традиции, рождались другие, но принцип троичности земной жизни и структуры человека оставался стабильным. Видимо, на это постоянство и указывает Библия, говоря о Боге, как о гаранте стабильности: «…у которого нет изменений и ни тени перемены» (Иак. 1, 17).
«База» божественного эксперимента, его основополагающий принцип (стабильность троичности субъекта и объекта) не изменяются во времени и пространстве. Основное требование к опыту (чистота его проведения) Богом не нарушено. Меняются лишь условия божественной задачи, предлагаемой человеку, который в соответствии с этим меняет углы и точки зрения на троичность. Но при этом неизменной остаётся сама троичность, которая в нас и вокруг нас.
Триада человека в трёхмерном пространстве
Во вступительной части статьи читателю предлагалось сделать «круговой обзор» с целью обнаружения этой самой троичности. Конечно, всего мы не увидим из-за отдалённости объектов, всего не разгадаем из-за сложных, маскирующих их конфигурацию внешних оболочек. Но кое-что – слишком очевидно, а иное – легко раскрывается (было бы желание).
Пожалуй, наиболее яркой иллюстрацией троичности (в прямом смысле – вокруг нас) является геометрическое пространство с его трёхмерностью. Положение любой точки пространства (объёма) описывается тремя параметрами в декартовой системе координат. Привычные одномерные понятия: длина, ширина, высота – применимы только к объёму, телу и существовать в отрыве от последнего не могут. Эти весьма условные понятия в конечном счёте представляют протяжённость какого-то отрезка линии. Но, превращаясь в линии, они в свою очередь сразу же обретают трёхмерность, т.к. любая физическая линия, как и физическая точка, и плоскость, просто не могут не иметь объёма. Это общеизвестно: как бы ни была мала частица «чего-то», она всегда будет трёхмерной.
Но на практике мы часто пренебрегаем одним или даже двумя размерами в «пользу» третьего. Например, шириной, а ещё более – толщиной линии, оставляя последней лишь её длину, протяжённость. Это допустимо в силу того, что численные значения отбрасываемых размеров ничтожно малы по сравнению с параметром оставшегося размера. Впрочем, это – искусственный приём. Реально же мы живём в трёхмерном мире и состоим из трёхмерных же частиц, т.е. мы «насквозь» троичны физически. Всё это элементарно и очевидно.
Интересно другое – связь трёхмерности пространства (объёма) с троичностью человека, а точнее – некая их аналогия.
Ещё Декарт отождествлял материю с протяжением, считая последнее независящим от нашего субъективного восприятия действительности. Иными словами, он видел взаимосвязь телесной (материальной) составляющей триады человека с протяжением, длиной, т.е. с первой составляющей трёхмерного пространства. Но мы и на интуитивном уровне ощущаем, что человеческое тело и длина «чего-нибудь» как-то взаимосвязаны. (Недаром размеры человеческого тела и его фрагментов послужили прототипами мер длины во многих странах, в том числе и в России.) Длина как первый параметр трёхмерности «длина, ширина, высота» в практике чаще всего бывает базовым размером, наибольшим габаритом, наиболее ощутимым «телесным» фактором.
Ширина же, а точнее образуемая ею совместно с длиной площадь, т.е. двухмерное пространство, аналогично второй ипостаси человеческой троичности – душе. Человек ощущает это подспудно, называя душу широкой, песню как выражение состояния души – раздольной, разливающейся вширь. Душевные эмоции, вообще говоря, ассоциируются у нас с чем-то жидким, растекающимся по поверхности (выплескивать эмоции).
Аналогичные рассуждения применимы и в отношении высоты, вертикали, образующей совместно с длиной и шириной полную трёхмерность пространства, объём. «Высокий дух», «высшая цель», «высокие идеи» и т.д. – вот те «вертикальные» эпитеты, которые мы прилагаем, когда хотим выразить нечто высокородное. Кстати, Дух Божий «дышет, где хочет…» (Ин. 3, 8), т.е. царствует в полном объёме трёхмерного пространства. Итак, существует скрытая, но внутренне ощутимая связь человеческой ипостаси «дух» с высотой, пространством, вертикалью.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: мерности пространства и планы человеческой троичности соединены соответствующими связями. И поэтому человек сполна воспринимает своей триадой трёхмерное же окружение.
Троичность «вокруг нас» проявляет себя не только в природной среде, но и в отдельных «зонах и участках» повседневного бытия – ситуациях.
Ситуация выбора
Даже в ситуациях-копиях, которые внешне совершенно однозначны и, казалось бы, не подразумевают второго решения, выбор скрытно присутствует. А точнее – результат выбора, сделанного человеком ранее. Этот результат проявляется в конкретных поступках, которые в сходных ситуациях просто-напросто тиражируются. Например, повседневные действия, связанные с распорядком дня предприятия, учреждения. Мы их совершаем автоматически, не задумываясь и не взвешивая: надо ли завтра вставать в 6.00, чтобы к 7.00 успеть на работу. Какой же здесь выбор? Дело в том, что мы ранее, в своё время, уже сделали добровольный выбор в пользу именно этого предприятия с его условиями работы, в том числе и распорядком дня.