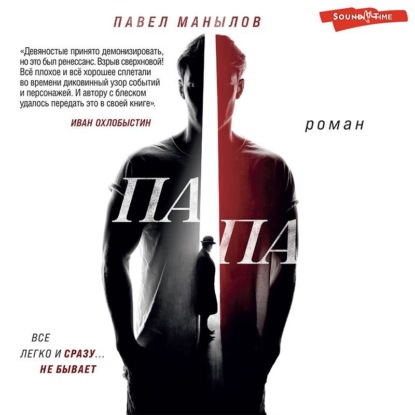Полная версия
Грот, или Мятежный мотогон
Глава четвертая
В ересиархи подался
Травник Сысой Никитич Брунькин никогда не называл себя старцем, что, конечно, разочаровывало тех, кто у него бывал и заваривал травы по его рецептам, выписанным на полосках березовой коры или сухих кленовых листьях. Вся бумага в доме давно вышла, кроме старого, полуистлевшего отрывного календаря, листки которого карандаш протыкал насквозь.
«На доносы в патриархию извел ее, бумагу-то», – признавался Брунькин, с лукавой выжидательностью глядя на слушателей: поверят ли или уразумеют, что смысл произнесенной фразы в чем-то ином и сказанное им не сказ, а иносказание?
«Так ты все-таки, выходит, старец?» – спрашивали те. «Никак! Не беру на себя сие ответственное долженствование». «А мы-то грешным делом почитали тебя за старца», – сетовали бывавшие у старца и вздыхали, из чего следовало, что в другой раз они теперь, может быть, и не придут, не соберутся (дел слишком много, да и хвори, слава Всевышнему, отпустили).
Поэтому, желая вознаградить их за такое разочарование, он под видом сообщаемой им тайны доверительно признавался с самым серьезным видом, правда слегка подмигивая (помаргивая правым, затянутым морщинистым бельмом глазом), что он если и не старец, то – уж доподлинно – первостатейный русский розенкрейцер.
«Я, матушка, розенкрейцер, посвященный, самый натуральный, первостатейный, только это секрет. Имеющий уши да слышит. – Прижимал к губам заскорузлый палец. – Уж ты, пожалуйста, сделай милость – не выдавай». «Так розенкрейцеры всякие – это ж бесы», – ужасалась посетительница. «Насчет бесов не знаю. А вот за розенкрейцера ручаюсь. Вишь, у меня за окном – розы, а на груди – крест. Вот и кумекай, отчего у моих трав такая целебная сила».
И смеялся тихим смешком, подхихикивал…
Сам он был ветхий, истончавшийся, истлевающий (во всяком случае, ношеный-переношеный подрясник на нем и впрямь давно истлел), в чем-то шальной, словно опоенный. Иногда ступал не туда, особенно левой ногой в драном, стоптанном лыжном ботинке (выглядывали пальцы ног с желтыми ногтями). Подчас терял слух, но читал и писал «без линз», как он говорил – без очков, хотя очки для солидности иногда надевал.
Читал-то без линз, зато телевизор у него был с маленьким экраном и линзой – старый, допотопный КВН, каким-то чудом еще помигивавший, работавший, что-то показывавший сквозь набегавшую волнами рябь и помехи.
«Что это он у тебя показывает – не разобрать», – недоумевали посетители. «А по-моему совсем не то показывает, что по вашему. Встань-ка рядом с ним, и он тебя насквозь просветит, все внутренности покажет со всеми болячками». – «Шутишь?» «Шучу, шучу», – успокаивал он, хотя кое-кого рядом с телевизором (или за ним) ставил и внимательно изучал, что при этом показывают.
Власти – в том числе и церковные (из Серпухова) – о старчестве Брунькина деликатно умалчивали, этого не касались, но зато проводили дознание, по какому праву он лечит, есть ли у него соответствующее образование и диплом. На это Брунькин отвечал одной и той же загадочной фразой: «Не первый раз на свете живу. Кое-какой мудрости набрался».
Слышавшие считали это оговоркой и поправляли: «Не первый год, наверное, живешь-то».
Но Сысой Никитич поправки не принимал и стоял на своем: не первый раз. А если кто-нибудь продолжал приставать с поправками, вопрошал, задавал глубокомысленный вопрос: «А скажи, милок, почему в Библии, к примеру, у одного мужа бывает много жен?»
Никто ответить ему толком не мог, и тогда он сам отвечал: «А потому, что один дух проходит через множество воплощений, пока не наберется опыта и сноровки. Палингенесия, по Матфею, – рождение заново, перерождение, многожизние. Я старичок умишком своим вострый. Я умишком своим до чего допер-то, а? Не метампсихоз, переселение души, а именно перерождение, иначе бы создавалась видимость, будто душа человека переселяется в оленя, лягушку, муху, пчелу. Не переселяется, а перерождается. Недаром сказано: «Блажен тот, кто пребывает до того, как возник». Пребывает там на небе до того, как возникнуть здесь на земле. Имеющий уши да слышит. Так-то, любезные».
От этих слов серьезные люди отмахивались, как от лишней мороки, и тогда Сысой Никитич убеждал их средствами кино. Он приводил заученную фразу из когда-то виденного фильма, что академиев он не проходил, а всему научился от отца, потомственного травника, когда-то вылечившего самого товарища Яна Эрнестовича Рудзутака, и бабки Улиты.
Та, сидя на печи, доподлинно знала, где какие травы взошли, какие из них уже набрали силу, годятся для лечения, а с какими следует годик-другой потерпеть и обождать.
Жил он в комнатке на пятом этаже облезлого блочного дома грязноватого желто-розового цвета (все похвалялся, будто живет во дворце), под самой крышей. Летом, в июльскую жару, крыша накалялась от солнца – что твоя печь. Брунькин же в шутку сравнивал себя с библейскими Седрахом, Мисагом и Авденаго, коим, по приказу Навуходоносора брошенным в печь за дерзкое непоклонение языческому истукану, печной огонь не причинил никакого вреда, и они остались живы. «Вот и я Седрах, Мисаг и Авденаго в одном лице. Гляньте – живехонек, – с усмешкой указывал на себя Брунькин. – Кроме того, я не токмо здесь обитаю, но и в лесу живу, хотя и без прописки».
Все слышали, что в лесу у него избушка, где он сушит травы и готовит лечебные настои (а иногда и водку настаивает на мяте и зверобое: этим лекарством сам от простуд всяких лечится). «А кто дал разрешение на избушку?» – спрашивали его. «Так где она, избушка-то? Вы сначала найдите, укажите – тогда я и отвечу, кто дал право».
Отправлялись искать – и не находили. Брали проводников из бывавших, надежных, испытанных, и те не могли указать дорогу, путались, терялись. Водило их, кружило, морочило. Мнилось, что с десяток верст отмахали, сами же вокруг одной кочки топтались.
Люба у Брунькина бывала, приносила кое-что, убиралась в избушке, хотя он особо не дозволял ничего трогать – так, лишнюю пыль смахнуть, но нужную оставить. Что такое нужная пыль, Брунькин не разъяснял…
Она потом рассказывала – докладывала – о нем отцу Вассиану. Тот пытливо выспрашивал – все до мельчайших подробностей, любопытствовал, интересовался, хотя, по собственному признанию, чего-то в Брунькине недопонимал. Не мог его раскусить, этот крепкий орешек: слишком толстая кожура – зубам не поддавалась.
Хотя о Брунькине кое-что знал – из того, что обсуждалось в высших церковных сферах (слухи ходили). К примеру, был осведомлен, что звали Брунькина в монастырь, старались приблизить к церкви, обещали признать старцем, поселить в скиту – все честь по чести: для церкви было бы престижно заиметь своего старца.
Но Сысой Никитич отказывался:
– Не совпадаю.
– С чем ты не совпадаешь? С матерью нашей православной церковью?..
Брунькин отвечал замысловато, что не совпадает он с христианством историческим и христианством традиционным. У исторического на совести много крови, а традиционное – то ключи потеряло.
– Какие ключи? От Царства Небесного? Так они у апостола Петра на поясе.
– Нет, мои милые, ключи от тайн.
– Каких еще тайн?
– Тайн Царства Небесного и сокровенных знаний. Поэтому у традиционного христианства свой крест – посеребренный, позлащенный, камнями драгоценными усыпанный, но не животворящий. Так-то, милые. Разумейте.
Отцу Вассиану не раз пересказывали эти разговоры. Он вникал, пытался в них что-то уразуметь, докопаться до сути, до самого главного. Но самое-самое – ядрышко – ускользало. В руках же оставалась одна шелуха.
«Это чистейшая эзотерика. Гностицизм! Ишь розенкрейцер-то наш куда метит. В ересиархи подался», – в конце концов решил про себя отец Вассиан и с тех пор стал звать Брунькина эзотерическим старцем.
Глава пятая
Неназванный
– Пожаловала, Любушка моя! А я сегодня-то тебя и не ждал – не обещалась. Чай стряслось что-нибудь? Кто-то обидел? Кручину на тебя навел?
Брунькин искательно всматривался ей в лицо, чтобы не упустить выражения, которое поведало бы ему больше слов о том, что произошло и кто навел на нее кручину.
– Сегодня Сергей возвращается. Муженек. Отпустили на поруки. – Люба резко отвернулась и стала смотреть куда-то в сторону, чтобы не видеть ничего перед собой – в том числе и Брунькина с его искательным – жалостливым – взглядом.
– Ах ты, господи! Его же позже ждали. – Сысой Никитич почувствовал себя виноватым за самого себя и свой неуместный взгляд.
– Ждали позже, а вышло раньше. Можно у вас пожить? Хотя бы недельку побуду, а там мы с Витольдом посмотрим. Быть может, во Львов уедем.
– Так лучше в Москву. Москва-то ближе. Почти под боком.
– Там остановиться негде. Да и Витольд Москву не любит.
– Как же ему любить, когда там памятник гражданину Кузьме Минину и князю Пожарскому стоит, а не Гришке Отрепьеву с его кралей на коленях – вот был бы памятник! Монумент!
– Не корите его.
– Да я и не корю. Охоты нет.
– Он умный, смелый, великодушный… к тому польский патриот. И я его люблю, несмотря ни на что. И буду любить.
– Любишь, любишь, а любовь… гм… зла. Зла, тетенька. Ах, не то говорю, не то говорю, – спохватился Брунькин, что сплоховал со своими речами.
– Скажите то. Вы же старец.
– Неназванный, – поправил Сысой Никитич. – И церковью непризнанный. И ты меня старцем не величь. Я у Бога вольнонаемный. Работник в винограднике, получивший динарий.
– Вольнонаемный? Да по мне хоть какой… – вырвалось у Любы, и она сразу пожалела, что не по-доброму это сказала.
– Сердишься на меня за то, что я тогда Витольда твоего не принял? А знаешь, почему? Потому что они с братцем его Казимиром – близнецы, то бишь атеисты. Или выдают себя за атеистов.
– И что?
– Это атеисты во всем друг на друга похожи – не отличишь. Верует же, любушка, каждый по-своему.
– Будто бы. А то я верующих близнецов не видала.
– Где ж ты их видала?
– Да ими все храмы переполнены. Особенно если приспело куличи святить…
– Ну, куличи… – Брунькин не стал ронять достоинства и высказываться о куличах. Вместо этого добавил кое-что к прежнему разговору: – Ну и кроме того, Витольд твой против нас чечетку отбивал. Он большой мастер насчет чечетки.
– Как это отбивал? Какую еще чечетку?
– А такую, что в Чечне против нас воевал.
– В Чечне? Он мне не рассказывал.
– И не расскажет. Не дурак.
– А я и знать не хочу. Люблю его и все, – сказала Люба с веселым вызовом.
– Люби. Никто не запрещает. – Брунькин сник и поскучнел.
– А как вы узнали про Чечню?
– По телевизору показывали. По моему телевизору. – Брунькин счел нужным обозначить голосом, что телевизор принадлежит именно ему, а не кому-то другому. – Правда, помехи были, и я не разглядел, сколько он там наших-то уложил.
– У него близорукость. Он плохо стреляет. Зато он – поэт.
– О! – Брунькин позволил себе восклицание по не совсем ясному поводу. – Вот и оправдание ему готово. У нас всему найдется оправдание. Всех простят – и поэтов, и чечеточников, и медвежатников, и голубятников. Закон никому не указ. Ладно, пойдем – я тебя во флигеле устрою. Только там у меня гость из Серпухова – патриарх Никон. Он сейчас чай пьет. За травами для владыки Филофея пожаловал. Хворает владыка. Неможется ему.
– Тогда я здесь подожду.
– Пойдем. Не стесняйся. Патриархом-то он в одной из прежних жизней был, ныне же – псаломщик Симеон, молоденький, совсем мальчишка, хотя и с иноческой бородкой по скулам, и румянец у него необыкновенный – цветет, как пунцовая роза. И волосы вьются – ну просто ангел золотые власы.
– А почем вы знаете, что он был патриархом?
– По телевизору сказали. Между прочим, твой будущий муж.
– Чё?! Чё такое говорите-то?! – Люба возмутилась, но, как всякой женщине, ей было втайне приятно и зазорно слышать о своем будущем замужестве.
– Знаю, что говорю. Вот увидишь. Под венец с ним пойдешь. Венец над вами держать будут и белое полотенце постилась под ноги.
– А мой Витольд?
– Я же сказал – Симеон.
– Да я, небось, старше его лет на десять.
– На двенадцать с половиной лет. И ростом он пониже. Такая будет пара супружеская. Образцовая. Загляденье. Душа в душу всю эту жизнь проживете, а там Господь посмотрит по вашему поведению, куда вас определить.
Глава шестая
Скиталец, но не паломник
За окном сверкнуло, громыхнуло и ухнуло – прокатился первый весенний гром. Стекла словно выгнуло на солнце засиявшей от прямых лучей бритвой, и заструился дождь. Зашуршал, замямлил, загугнил, зашепелявил в листьях.
Посвежело. Вскипавший воздушными волнами дождь донес запах прибитой пыли на дорожках, мокрых, подгнивших до винного привкуса ступеней крыльца, жестяного, замшелого по стыкам рукавов водостока на шиферной крыше.
Снова ухнуло – словно с треском разорвался небесный тугой коленкор. От удара грома Люба испугалась (за зиму отвыкла) и перекрестилась, а Брунькин обрадовался, засмеялся, возликовал: «Вот травы-то теперь попрут!»
Но дождь продержался недолго – тут же стал опадать и стих.
Брунькин, переступая через лужи и стараясь не зачерпнуть воды своим дырявым лыжным ботинком, отвел Любу во флигель, как называл вторую избу. Там за чаем сидел псаломщик Симеон, весь распаренный, взмокший, а румянец и впрямь необыкновенный, щеки так и горят, и колечки волос к вспотевшему лбу прилипают.
– Что, ангел? – спросил его Брунькин, ободряя гостя, который мог без него приуныть и соскучиться. – Хорош чаек? Поведай, как там владыка?
– Кашляет. Похоже, хронический бронхит.
– Вылечим. Я вот ему травки отсыпал – передашь. – Брунькин достал матерчатый мешочек, затянутый аптечной резинкой. – Знакомься – это Люба Прохорова. Пришла на тебя поглядеть.
– Сысой Никитич… – У Любы резко обозначились скулы, она нахмурилась и гневно вскинула на старца полыхнувшие фиалковым пламенем глаза.
– Засмущалась… – Брунькин ласково улыбнулся, показывая, что гнева ее ничуть не боится.
Симеон тем временем поднялся, отряхнул руки, поправил подрясник.
– Очень рад. – Он не знал, протянуть ли Любе руку или просто поклониться.
– Божественному обучена. – Брунькин вовсю нахваливал будущую невесту. – Как сказано в одной древней книге, тщательно исследует об истине и о божественном и имеет сердце, обращенное к Господу. Стало быть, легко принимает все.
Люба еще больше нахмурилась и на похвалу оказалась не слишком податливой.
– Нет, ко мне скорее применимо другое речение: «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Я – именно такая, – поправила она Брунькина.
Сысой Никитич воззрел на нее с изумлением. Он что-то про себя отметил, смекнул, но ничего не сказал и продолжил свое:
– И брат у нее, знаешь, какой умный? Второй Ориген Александрийский. Она у него многому научилась. Ну и отец Вассиан по мере сил ее просвещает. Ты с ней о божественном-то потолкуй. Обсудите из Екклесиаста: «Пускай хлеб свой по водам и через много дней снова обретешь его». Что сие значит – хлеб по водам пускать? И как его можно через много дней обрести? А ведь тут мудрость великая.
– Не разумею, – покаянно признался Симеон. – У владыки Филофея при случае спрошу.
– Владыка тебе вряд ли ответит. А вот братец Любин тот может…
– Что-то он мне про эту фразу говорил, а я забыла.
– Он тебе напомнит. Прибыл уже?
– Обещался к обеду.
– Как же он без тебя-то устроится?
– Не пропадет. Витольд ему ключ передаст от моей комнаты. Или пока в гостинице поселится. Он нашу маленькую гостиницу очень любит. Ему там хорошо.
– Вона! Значит, странник в душе, раз гостиницы – постоялые дворы – любит. Скиталец, но не паломник, поскольку вещественные святыни не чтит. Бога в самом себе ищет твой братец.
– А как Его в себе без святынь-то найдешь?
– Он знает, но не всякому скажет. – Сысой Никитич посчитал, что и сам сказал Любе больше, чем нужно, и поэтому обратился с советом к псаломщику Симеону: – Ты в библиотеке книгу возьми про патриарха Никона и Новый Иерусалим. Почитай. Тебе полезно.
И когда Симеон удивился: что за польза подобные книги читать, Брунькин ему едва заметно – с глумливой подначкой – подмигнул левым глазом.
– Прочти, не пожалеешь. Тебя особо касается.
После этого же потер глаз, словно наказывая его за подобные вольности, чтобы тот зря не моргал, а вел себя чинно и пристойно – как и полагается глазу неназванного старца.
Глава седьмая
Изменила!
Сергей Харлампиевич Прохоров, по кличке Вялый, ни из тюрьмы, ни из колонии жене не писал. Он обещал себе (дал этакую клятву), что на двадцать писем отвечать не будет, а, получив двадцать первое, напишет. Причем, думалось ему, что напишет так хорошо, по-доброму, с любовью, как не смог бы написать, отвечая на предыдущие девятнадцать.
Но двадцать первое так и не пришло: ее письма иссякли после семнадцатого. Он тогда еще не знал почему и считал, что причина в его затянувшемся молчании: мол, сам виноват. Ответов на ее письма не слал, а кто ж без ответов писать станет. У самой терпеливой терпения не хватит.
Словом, Люба наверняка просто устала посылать письма в неизвестность, в пустоту, в никуда. Поэтому он уже хотел ответить на семнадцатое, но сам себе воспротивился, выругал себя за слабость, не разрешил нарушить собственное обещание, тяготевшее над ним как клятва.
Сергею Прохорову казалось, что каждое его письмо Люба будет воспринимать как униженную просьбу его дождаться, сохранить ему верность, а он просить – унижаться – себе не позволял. При этом ради самоуспокоения рассуждал так. Если было меж ними что-то, способное заменить просьбу, то Люба и так дождется, если же не было, то самое терпеливое ожидание не будет иметь смысла, как не имеет смысла ничто в этой паскудной жизни, в этой мельтишне, суете-мутоте (ничто, кроме недавно открывшейся ему веры).
Восемнадцатое письмо все же хоть и с задержкой, но пришло – обычное письмо, где Люба спрашивала, как он, что ему необходимо, что прислать – вязаные носки, курево, плиточный чай, в чем у него особая нужда. Но почему-то эти вопросы так его разжалобили, умилили, умягчили душу, что Сергей Харлампиевич у себя на нарах, отвернувшись к стенке, прослезился (глазелки взмокли).
И тогда он решил плюнуть на свое обещание. Плюнуть и на восемнадцатое ответить, не дожидаясь двадцать первого. Но тут узнал от дружков новость, от которой онемел и оглох. Верная женушка Люба, по слухам, ему – бац! – изменила с поляком Витольдом, одним из братьев-близнецов, и будто бы меж ними великая любовь, и Люба переехала к нему жить.
Переехала со всем хозяйством, с бельем и посудой и тем самым, как бритвой по глазам полоснула своего мужа…
Поначалу он не поверил.
Вспоминал ее письма, вспоминал свое недавнее умиление, растроганные слезы на глазах. Но Сергей Харлампиевич знал за собой одну особенность, свойство характера: в неверии он был неустойчив, легко поддавался сомнениям и наконец сдавался – начинал верить, и подобная вера была крепка, как скала: не разубедить, не сдвинуть (доказательство тому – его выстраданное православие).
Вот и сейчас Сергей Харлампиевич уверовал, что Люба изменница, порочная, гадкая, и мечтал отомстить, ее жестоко и безжалостно наказать. Ведь она его наказала – вот и он должен был ответить, отмерить – выровнять чаши весов, поровну распределив гирьки, и тем самым восстановить поруганную (заплеванную, обхарканную) справедливость.
Но этому мешало то, что отец Вассиан за него поручился перед прокуратурой и лагерным начальством, и это вынуждало вести себя тихо, не брыкаться, воздерживаться от мести, лишь бы отца своего духовного не подвести. Но желание мести напирало, и ему нужно было доброе вмешательство и участие своего благодетеля повернуть так, чтобы оно оказалось злым и корыстным. Тогда он мог бы разом наказать обоих – Любу за измену, а отца Вассиана за непрошенную (навязанную ему) доброту.
Для этого, не придумав ничего лучшего, решил дать отцу Вассиану денег, и немалых, – в знак сыновней преданности, благодарности за освобождение: «Вот примите, отец, на нужды храма. От чистого сердца».
Или что-то в этом роде…
Если возьмет, значит, корыстен, а где корысть, там и зло, и всякие напасти. А если не возьмет, что вполне вероятно? А если эти денежки швырнет ему в лицо (скорее всего так и будет)? Тогда сотворенное отцом Вассианом добро во стократ умножится и обретет такую силу, что Сергею Харлампиевичу с ним никогда не совладать. Умнет, сплющит, раскатает оно его, как асфальтовый каток. И останется ему лишь вечно себя казнить и проклинать.
Нет, деньги вещь ненадежная – гораздо лучше в этом случае другое: болезненная мнительность, воспаленная ревность, запальчивое подозрение. А отсюда и до желанной мести всего один шаг. Шагнул – и, считай, отомстил (раздал всем сестрам по серьгам, и серьги такие, что красота, одно загляденье).
Тут в голове у Сергея Харлампиевича все смешалось, как в доме Облонских, и он стал подозревать. Подозревать, что неспроста… неспроста Люба так преданна отцу Вассиану… что у них, голубчиков, шуры-муры, нежное воркование и сплошные амуры. Витольд же для них так, маскировка, ширма, завеса в Иерусалимском Храме (про Храм этот кое-что читал и слышал на проповеди), удобное и надежное прикрытие.
Глава восьмая
От гадалки Макарихи
Когда Сергей Прохоров увидел – разглядел в толпе на пристани – Витольда, желание отомстить Любе и отцу Вассиану мало-помалу рассеялось и исчезло, а вместе с ним отпала необходимость подозревать и откупаться деньгами. Все это показалось нелепыми фантазиями, пустыми – вздорными – измышлениями, тогда как Витольд, чья фигура навязчиво маячила перед глазами, был реальным воплощением всего самого чуждого, враждебного и ненавистного.
Вот он вышагивает в сапожках с подвернутыми голенищами по пристани. Вышагивает, гладко (до синеватого отлива) выбритый, с оставленными пышными, чуть завитыми усами, бородкой и красивой сединой, выбившейся из-под высокого картуза. Пан!
Приподнимая над головой картуз, всем кланяется – сама учтивость и любезность. И при этом кого-то нетерпеливо высматривает сквозь нелепый, затрапезный (извлеченный из чердачных завалов, из старого хлама и рухляди) монокль на длинной ручке.
Высматривает и выискивает глазами.
Кого же, как не его, Серегу! Ради него и пожаловал сюда один, без Любы (ее-то, наверное, спрятал в надежном месте).
И всю свою жажду мщения Сергей Харлампиевич излил на поляка, улыбчивого (сахарная улыбка), обаятельного, всех располагающего к себе, и от этого еще более гадкого и отвратительного для Сергея.
Тот тоже издали его заметил и подошел. Приложил два пальца к козырьку.
– Имею честь представиться, Витольд Мицкевич. У меня к вам мужской разговор. Отойдем-ка в сторону.
Сергей Харлампиевич сразу согласился, закивал, даже подпустил в свое согласие чуток угодливости, приниженности перед такой важной персоной.
– Сей момент. Если надоть, то и отойдем. Только в какую? Их здесь четыре, сторонки-то.
– Какая вам нравится.
– Мне-то? Да хоть какая…
– Ну, тогда извольте вот сюда, за дебаркадер.
– Пожалуйста. Как скажете. Как велите.
Зашли – завернули – за дебаркадер, в заросли орешника. Оба слегка нагнулись под ветками.
– Вот и хорошо. Здесь нам никто не помешает. – Витольд Адамович снял картуз и пригладил волосы.
Серега прикинулся простачком – этаким лохом.
– Уж вы, пожалуйста, приборчик ваш оптический уберите. Не пугайте им бывшего зэка.
Витольд брезгливо спрятал монокль за спину.
– Так пойдет?
– Нет, уж вы его в карман. И позвольте полюбопытствовать. Бить будете? Пощечиной удостоите? Буду премного благодарен, потому как заслужил по грехам моим тяжким. Вы – по левой, а я правую охотно подставлю.
– Не ломайте комедию, Вялый. К тому же в Евангелии наоборот: кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. То есть левую.
– Ба! Вы и Евангелие читали!
– Не только Евангелие, но и Коран.
– В почтении склоняюсь. Тем более – бейте. Или из Царь-пушки вашей пальните. У вас ведь, наверное, и пушка есть в кармане.
– Есть, есть. Не сомневайтесь.
– Так пальните же. Не побрезгайте. Цельте прямо в лоб. Или я сам в себя пальну, а вас за это посадят. И никто на поруки не возьмет.
– Зачем же палить. Или бить!
– За тем, что мы оба бывшие. Я – бывший мусульманин, а вы – христианин.
– Хоть бы и так… – Витольду Адамовичу не слишком хотелось признавать себя бывшим. – Тем более договоримся. По-человечески.
– О чем это договоримся-то? Ась? – Серега, подражая глухому, приблизил ладонь к уху.
– О разводе. Дайте Любе, жене вашей, развод. Хотя суд вправе вас развести и без вашего согласия как осужденного.