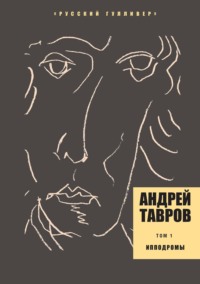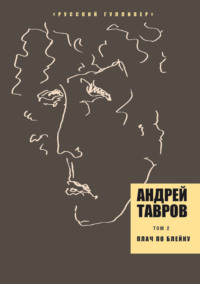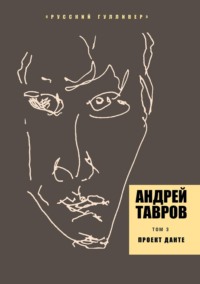Полная версия
Обратные композиции

Андрей Тавров
Обратные композиции

Реальность, увиденная оком Единого
Книга новых стихов Андрея Таврова – на две трети о войне. О войне как таковой, войне, взятой как состояние, войне вообще, которую, в отличие от войны конкретной, длящейся или оставившей свежий след, поэзия избегает (причина чему интуитивно понятна).
Так вот, в этой книге войне отдано две трети, то есть две из трех частей или, точнее, разделов.
Локализация во времени, заявленная уже самим названием первого раздела – «За месяц до войны», вызовет, пожалуй, легкий дискомфорт неузнавания у читателя, хорошо знакомого с поэзией Таврова, поскольку та «недолюбливает» саму категорию времени: как течет время внутри тавровской вселенной, линейно оно или циклично, установить невозможно. Впрочем, отсутствие времени не исключает присутствия истории, постоянно проживающей саму себя в вечности, почему и ни один, наверное, критик или исследователь, касавшийся стихов Таврова, не обошелся без упоминания мифа. И вот мы видим тексты «За месяц до войны», к историческому времени недвусмысленно привязанные, и поначалу, по совокупности узнаваемых деталей и имен собственных, может показаться, что даже война конкретизирована – Первая мировая. Однако на самом деле «поводок» все-таки длиннее или охват шире: не первое десятилетие XX века, а весь XX век.
Повышенная плотность на пространственную единицу, поиск предельно объективного в предельно субъективном, когда чем глубже внутрь себя, тем всемирнее, всечеловечнее, потому что подсознание населено архетипами, – все это лишь самое очевидное «присутствие» модернизма в его поэтике.
Как и в случае «Кантос» Паунда (рефлексию чьего – равно и Т. С. Элиота – наследия у Таврова можно уподобить ответным репликам воображаемого одностороннего диалога, очень личного), вневременность необходима или интересна для автора лишь из определенной временной точки, той, где он сам пребывает. С одной стороны, историческая реальность спасена из времени, возведена до мифа. История рассеивается в вечности, но не исчезает в ней; это рассеяние – свобода; со свободно дышащей, времени более ничем не обязанной Историей вольно дышит и поэт. С другой стороны, эта вечность оказывается внутри XX века, призываемая если не для того, чтобы судить его, то по крайней мере ради того, чтобы свидетельствовать на этом процессе.
Якобы индифферентная ко времени поэзия Таврова, и особенно представленные в этой книге стихи, это рефлексия XX века, но рефлексия почти телесная по степени вовлеченности, пристрастности, кровности. Когда все условное перестает быть условным, когда все настолько касается лично меня, тогда миф – хоть по Лосеву, хоть по Элиаде – уже не миф; тогда начинается трагедия, и Тавров обращается к сюжетам не мифологическим, а трагедийным – и для XX века знаковым: Эдип, Антигона, Ифигения. Именно XX век развернул античное наследие на 180°, заставив служить воплощением не гармонии, но дисгармонии. Блаженные бессмертные гении, как именовал их Гёльдерлин, являют уже не гарант устойчивости, но всю глубину безосновности. Мир за месяц до войны у Таврова – мир перманентной катастрофы1. Падает ли на него тень из недалекого будущего или, наоборот, будущее потому и таково, что подготовлено, это для данного мира, как и для стихов, не важно. «Катастрофизм» присущ умонастроению первой половины XX века, и, соответственно, Тавров «окликает» и сюрреалистов, и обэриутов.
…конь скачущий в жокее раскрывался / вот вытянется словно кот копытом / вот руку заднюю посеребрит / из плеч их снова выбросит как камни / и вспять в жокея ямою уйдет / а тот как человек сидит в коне, огромным глазом / он смотрит на ветвящуюся землю / как будто бы она как дым за пулей / его сухое тело – мысль коня – / ползет в коне в длину / из морды выступает ликом человечьим / уже незрячим, вдохновенным
(«За месяц до войны»)Конь, так часто возникающий в стихах этого раздела, этот и конь бледный, и конь бедный, который «руками машет»; и красный конь Петрова-Водкина, и конь пикассовской «Герники», но также и просто образ неукротимого, стихийного буйства. Как в «Обращении Савла» у Пармиджанино, где нависающий над Савлом конь символизирует то ли разрыв привычной реальности, и в этом смысле возвещает нечто иное, не здешнее, то ли, напротив, итожит собою как раз здешнее – вырвавшуюся, отделившуюся от уже почти Павла идущую против рожна силу2. Для поэзии Таврова подобное «то ли – то ли», «или – или» снято: ее образный динамизм – это и взаимное сопротивление, и взаимное проникновение, но никакая не борьба-единство. Сопротивление и длится, и уже заранее побеждено, так что мы находим иное и здешнее, небесное и земное занимающими одну точку – как на картине Пармиджанино. Как ни странно, такое внутреннее, умозрительное наложение оказывается ближе к тому, что делает Тавров, чем зримое наложение форм, например, у Филонова.
Но зачем Таврову весь этот уже пройденный другими путь, зачем ему этот отмучившийся XX век? Дело в том, возможно, что из сегодняшней перспективы, то есть для нас, XX век как бы представительствует за все минувшие века, неосознанно воспринимается как результат и цель истории, поскольку после него – настоящее. История отделяется от времени и переносится в вечность, но в «вечность», увиденную из перспективы совершенного определенного временного отрезка, это вечность принципиально такая, какой ее мог изобразить художник XX века. То есть личность, для нас уже историческая – и как историческая опять-таки принадлежащая вечности, наряду с современниками Еврипида и Данте. Большее входит в меньше, и так снова и снова, и вечность, включающая историю и внутри истории «я» поэта, заключается внутри этого «я». Поэзия Таврова показывает мир изнутри «я», включившего мир в себя, связующего его собой, создающего точку пересечения линий, тем самым как раз и придавая катастрофичность этому узлу. Фигуры, в своем значении объективные, застывшие, вроде Эдипа, Ахилла и т. п., тасуются с субъективнейшими аллюзиями. «Стихотворение, как я его понимаю, во многом похоже на солнечную систему, более того, оно удерживает ее внутри себя, и поэма Данте о путешествии по сферам бытия это рассказ, конечно же, о внутреннем, а не о внешнем событии, – говорит Тавров в своей речи на вручении ему Премии Андрея Белого. – Можно сказать, что оно происходит внутри стихотворения, внутри большой поэмы, внутри читателя и поэта»3. (Замечательна последовательность: первым идет стихотворение, затем читатель и только на последнем месте – поэт; к подоплеке ее мы еще обратимся подробнее.) Нет никакого посредничества между внутренним и внешним – потому что нет внешнего. Нагромождение отсылок к культурному полю – это на самом деле обратная перспектива, которая не меня выбрасывает в это поле, а втягивает его в меня. Таврову важна не культура, а человек как большее культуры, как «человеческое сердце», составляющее союз равных с космосом и вмещающее всю культуру и всю цивилизацию.
так что же, в птице нет меня? / и движется она на перья опираясь, / а не на яблоко в моей груди, / невидимое полое и без краев…
(«Птица»)Второй раздел книги – это концептуальные циклы «Обратные композиции» и «Человек Витрувия». Тавров поясняет цель, которую преследовал стихотворениями, читающимися снизу вверх, тем, что «смысл стал обретать невероятное количество новых планов, ибо, спускаясь с горы и поднимаясь в гору, видишь разные вещи». Чтение текста снизу вверх воспроизводит не только движение огня, согласно книге И-Цзин, но и рост человека или дерева, лишний раз напоминая о том, что перед нами живое. Концепция примыкающего цикла «Человек Витрувия» еще любопытнее. «Вот как пишется стихотворение этого цикла, собственно, – метод, подход, которым я пользовался: сначала я пишу сверху вниз те основные „иероглифы“, из которых оно состоит. Те, что потом стоят как слова крупным шрифтом справа. Отчасти это выглядит как план, но это не план. Скорее платонический мир, в котором стихотворение еще стоит, колеблясь „эйдосами“, чистыми идеями. <…> Это, если хотите, самая суть стихотворения – его Платоново тело, почти присутствие этого „тела“ здесь».
Вопрос о том, «иероглиф» по отношению к строфе – это все же слово или сама вещь; иначе говоря, строфа раскрывает некое слово или некую вещь? Вопрос этот для Таврова некорректен, потому что стихотворение и есть вещь, оно принадлежит не только и не столько языку, сколько той реальности, которую язык описывает, и не столько даже ей, сколько реальности более «реальной», миру идей. Везде, где Тавров говорит напрямую, «от автора», он говорит о нечто претерпевающем смысле. Как будто немного «школьное», изъятое из оборота современного аналитического дискурса понятие смысл стихотворения для него непреложно. Стихотворение Таврова не поощряет множественность интерпретаций, у него есть строго конкретный смысл, который должен быть считан. Поэзия Таврова при первом столкновении кажется герметичной, «темной», а между тем, и это «открытие» приходит вскоре после более пристального знакомства, она не требует расшифровки: единственный смысл встречает нас на сияющей поверхности целого; сама эта поверхность и есть смысл.
а еще летучие мыши небо аисту по колено либо ложишься на небо либо падаешь на него натяжение имени проходит через тебя ИМЯ-ВЕЩЬ формируя расчалки прутья векторы кожаные ремни полотно кто-то же произнес аист прежде чем он расширил глаза и взлетел («Лилиенталь [1]»)Третий раздел, «Флот в Авлиде», возвращает нас туда, где война на расстоянии вытянутой руки, она уже неизбежна, и ее отсрочка тем страшнее, что дает ей созревать, накапливаться в атмосфере. Стержень – сюжет Еврипида, но, по сути, третий раздел действительно воспринимается как возвращение первого, как пара к нему: назовем для примера только стихотворение «Андрея Белого память» (так!). XX век и тут, но аллюзивный охват, кажется, еще шире: не только Йоргос Сеферис, но и «ничему, никому роза» Пауля Целана:
Нет. Никто. Роза и пачка сигарет «ПАМИР»(«Вот дева без ключиц…»)Ифигения – не «жертва войны» в современном понимании, а жертва войне. Ее жертвенный статус не следствие войны, но условие; ее приносят в жертву, чтобы война началась, первая европейская (не в узко-географическом смысле) война, следовательно, европейская история и европейская литература. Эта жертва противоположна искупительной: она приносится не с целью прорвать, остановить детерминизм поступка и воздаяния, а, наоборот, с целью утвердить человеческую горизонталь, чтобы все оставалось как всегда – по законам вечного «военного времени».
Два одинаковых предмета, например, один и тот же человек не могут занимать два разных места но это там где время и пространство человечны здесь же где кантовские категории объяты словно тяжким огнем одним и тем же стоном одним и тем же петушиным воплем один и тот же человек разъят на двух, столь нестерпимых матери, стоящей у двух кровавых жертвенников, что в одно они стремятся слиться как в любви или в усилии двухстворчатой ракушки иль в стоне, плавящем в одно всю сумму слов… («О монадах»)Скорее Эмпедоклов, чем Гераклитов, космос «За месяц до войны» и «Флота…» буквально раздираем Враждой на элементы, предстающие неуправляемым множеством. Но только в фазе Вражды и возможно ожидание и призывание Любви, подспудное и от того не менее исступленное, – Любви, которая вновь соединит «корни вещей» и даст проступить единству.
«В новом осознании когда-нибудь должно быть понято, что смерть каждого человека не только изменяет нечто в мире – это есть катастрофа (курсив мой. – М. И.), через которую проходит, протягивается мир. В пространстве всеобщей родственности любое отдельное бытие пребудет в новом открытом и по-новому замкнутом и создающемся мире»4. Эти слова Владимира Аристова как будто подытоживают, заверяют по-этику Таврова. Но вписаны они в размышления о метареализме. Стоит ли вообще выделять метареализм как «автохтонное» направление из европейского поэтического модернизма – вынесем эти сомнения за скобки. Если наличествует нечто, что мы зовем метареализмом, то каковы отношения с ним поэзии Таврова, которую привычно числят метареалистической? Тема слишком велика, чтобы погружаться в нее здесь и сейчас и чтобы совсем ее не коснуться.
По Михаилу Эпштейну, главный, определяющий признак метареализма – метаморфоза, превращение: «Метареализм – это реализм метафоры, метаморфозы, постижение реальности во всей широте ее превращений и переносов»5. Ему отчасти вторит Владимир Аристов: «Метареализм можно попытаться определить как способ изображения в постоянном преобразовании, метаморфозе, трансформации»6; и Марина Кузичева отмечает, что движение, преобразование «момент принципиальный в построении образа у „метареалистов“»7. Действительно, у Таврова превращения перманентны: пространства, времени, любых «твердых» форм, вернее, как раз «твердых» форм поэтому у него и нет. Все течет, все видоизменяется, и не метаморфоза оправдывает применение метафоры, а, кажется, наоборот, метафора едва успевает отображать очередное превращение.
Аристов в «Заметках о „мета“», характеризуя сущность метареалистического подхода, говорит о формуле «это есть то» (вместо «это похоже на то»); Михаил Эпштейн – о «единомирии», о том же самом, по сути: нечто не есть символ другого, названное не отсылает к миру идей, но совмещает в себе вещь и идею.
Мы тянемся стать лучом, продолжиться и долететь. Нащупать себя культей увидеть свою спину выпить сухую воду Продолжится и долететь выворачиваясь в безмерное и с нами идет птица лебедь или воробей. не сходя с места. Так пловец на дистанции переворачивается у стенки и бассейн вместе с ним, и он плывет уже в другом мире, но в той же воде, закидывая мускулистую руку в кроле в живой воздух наполненный богами чистых соответствий, и он здесь и не здесь и он придет первым но ему это уже неважно после переворота только новое тело играет меж звездами и тихой землей, как конь, как родник («Переворот»)И все же эти стихи – не самая безропотная иллюстрация к тезису «единомирия». Для Таврова принципиальна не столько единственность мира, или единство мира, сколько мир как единство. О каком единстве речь? Единством мы называем множество, состоящее из единиц, объединенных общим признаком, который и делает их принадлежащими к этому единству. В таком смысле политическая партия – единство, и нация – единство. И мир – единство, все составляющие которого объединены по общему признаку того, что все они есть. Однако очевидно, что и для Аристова, и для Таврова важен не такой смысл единства. «Это есть то» для Таврова значит не «одно конкретное нечто есть другое конкретное нечто», а любое «это» есть любое «то», из чего следует, что любое «это/то» есть ВСЕ. Но если все есть ВСЕ, это означает статику, некое неизменное состояние, что в принципе исключает метаморфозы: все уже = всему, а стало быть, никакие превращения невозможны.
Разрешается же это противоречие в том способе, как именно метафора выявляет единство мира. «Возможной такая метафора становится в силу способности разорвать ткань и выявить некую особую зону… Некоторое состояние разума, в котором потенциально всё сходится со всем. Некую область чистой потенциальности, животворящей, изобретающей и играющей, откуда идет мощнейший импульс, дозволяющий осуществлять прыжок поверх барьеров… Метафора существует, таким образом, как место разрыва…»8
Столкновение двух форм заставляет их обрушиться, открывая за ними Пустоту, «живую пустоту», как называет Тавров эту всеобщую основу тождественности всех вещей, единства мира. Она и есть объединяющий фактор. Тогда понятно, что без динамики – столкновения – единство не обнаружится. Война и есть столкновение per se. Не диалектика, когда сталкиваются противоположности, а столкновение бессистемное, беспорядочное, что и делает катаклизм тотальным, вселенским. А теперь внимание: если «я» = всему, то вселенский катаклизм происходит во мне. И это не солипсизм, это не означает иллюзорности материи. Все – есть, так же как есть и «я». Я могу, скажем так, жить мимо единства, не сознавать его, не подключать себя к нему, а могу увидеть все объективно происходящее и даже происходившее как происходящее со мной здесь и сейчас.
Вот бабочка летит, Агамемнон / у нее неназываемые крылья / сквозь каждое ты смотришь сам на себя / <…> // Он стоит в сознании Бога на пляже / и плачет от невыносимой любви к миру / к дочери, бабочке, тростнику / видя их всех оком Единого…
(«Агамемнон и Зевс»)Накануне непоправимого, перед самой отмашкой кровопролития, я, ты, Агамемнон – кто угодно может стать проводником божественной вертикали, не отменяющей человеческую горизонталь, но отменяющей ее мнимое господство.
Тавров – метареалист постольку, поскольку, согласно характеристике метареалиста по Михаилу Эпштейну, «слишком всерьез воспринимает Реальность как таковую»9, чтобы использовать ее как неисчерпаемый ресурс для игры, читай, для поэтического, которое купировали до ничего не значащего «по». И нечто весьма близкое говорит сам Тавров о стихотворении, призванном «прибавить жизнь жизни, а не позаимствовать ее в целях собственного обеспечения»10.
Война – тема первого и третьего разделов книги, но названа книга по второму, «Обратные строки», не соотносящемуся тематически с двумя другими, между которыми помещен, и этот выбор о чем-то нам говорит, взывает к истолкованию. Промежуток, центр, середина не есть ли некое затишье, перемирие (а лучше сказать, вечный мир, который всегда прежде – не изначальный, но именно вечный и всегда преднайденный) и в таком качестве точка равновесия, опора? И в названии «Обратные строки», вынесенном на обложку, можно тогда усмотреть намек на спасительную, пусть и не осуществимую возможность обратить вспять, отмотать назад конвейер всего того, что люди учиняли друг над другом, не видя себя и другого «оком Единого»…
А может быть, второй раздел книги удостоился чести метонимически с ней совпадать потому, что концептуальность его текстов подчеркивает разумную сотворенность как общий принцип жизнетворного стихотворения. «Стихотворение… – дитя космоса и человеческого сердца, поэтому оно безмерно, поэтому его возможности никогда не могут быть исчерпаны, поэтому оно будет продолжаться до тех пор, пока продолжается жизнь» (речь на вручении Премии Андрея Белого). В стихотворении не может быть ничего случайного, заменимого, иначе оно не будет автономно как созидаемый живой предмет, организм, иначе «дитя» не вырастет.
Читая его эссе о поэзии одно за другим, как сборник рассказов, мы скоро обнаружим, что чаще всего предмет разговора здесь не поэт, но стихотворение. И это не значит, что акцент переносен с «кто» на «что», он перенесен на другое «кто». Именно стихотворение (а не поэт), по Таврову, субъект поэзии.
Характерна антропоморфность даже в словоупотреблении: «…из стихотворения, нарушающего застывшую этику, в новом мире поэтическое произведение превращается как в носителя этики, так и в представителя (курсив мой. – М. И.) этического безмерного на фоне аморфного этического, ощущаемого в обществе как норма».
Для Таврова стихотворение есть форма жизни и, как всякая форма жизни, дополняет мир, входит с ним в отношения, причем не только через читателя, но и непосредственно своим бытием. Тавров говорит далее в премиальной речи (цитата оттуда) о «миссии», но опять же не поэта (!), а стихотворения. Эта миссия – совмещение «безмерного и тонкого этического сияния с поэтическим высказыванием в контексте нравственно хаотической и аморфной дробности общества». Может показаться, что, постулируя этичность, Тавров приближается к пресловутой социальной ангажированности, гражданственности… если бы не одно слово в цитате: «безмерное». Безмерное этическое сияние кажется всего лишь орнаментальным элементом, пока мы не представим, что стихотворение сияет не своим собственным светом, порождая его, а отраженным. Слова о безмерном этическом сиянии указывают на источник этики, свойством которого является безмерность, то есть на Единое-Благо – или, в другой парадигме, Бога-Любовь.
Тексты Таврова кажутся потенциально продолжаемыми, разомкнутыми – как у всего живого, у его поэзии есть будущее. Собеседование с XX веком не делает ее «обратными строками», не мешает ей быть обращенной вперед. Поэзия Андрея Таврова кажется открытой и тому, чего еще нет, что придет завтра и послезавтра, гостеприимной к любым реалиям – потому что слышит голос Реальности.
Марианна ИоноваI
За месяц до войны
Конь
мне холки холм горючий не поднятьмне бабочку с земной груди не сдвинутьподкову за зернистые краяиз выпуклой земли пустой рукой не вынутьбей сокол мой вразлет косноязычный кругего скорлуп что сдвинуты ослепнуви вынуты из непосильных рукклубясь сиренью и уздой окрепнувне рассчитать косматого лицатри эллипса дистанцией играюти карусель кружит без колесаи коршуны бескрылые летаютах царь Эдип зачем ты стал конеми землю ел и выдохнул подковуи выронил могучий окоемиз глаз кровавых жадных и неновыхкак неподъемен он, губами как горячкак груду движет хрупкими ногамикак жжет пяту земля горящая под намии вспять летит четырехногий плачМанера письма
симметричная линзавыносит из себя два связанных в узел центра(см. чертеж)становится конем ипподромапепельницей в гостиницеголовой растрепанной в ветреи это одна манера письмапишет озерами самим конем и самойголовой с гуляющими волосамикто оба центра внес обратно в линзуи с ними вещькак будто бы она в себя втянулаглубоким нестерпимым зреньемкак сердце бездны – белого кита —исток сосредоточенного океанаи понесла обратно волныВозвращение убитых
разбитое дыханье пронесуткак лодку на плечах – в затылокшумит прибой.И рев его рассерженный слабеети волн вздымается все тише грудь как у героя после марафонамы возвращались ночь входила в дверии домочадцы тихо напевалиисторию с другими именамиуже не нашими и пела песню дочьи лаяла простуженно собака«где братские сады теснее чем могилы…»
где братские сады теснее чем могилыкультяпой бабочкой владею и зовусьвот теплоход стоит вот пахнет кофечто за упрямая распорка в нас живет!Сильней, чем в яхте или в соколе спадающемна цель из выгнутых и протяженных облаковкак колесо и из-под ног потокчто за дуга власть женщины рыдающейпрямит как взрыв, а после – тишинуя рассказал бы если б смогкакой в нас лад живой пернатыйлетящий и продолговатыйкак им звучит свирель из сотни голосовее собрали серебром наполнилино про смертельный выдох не напомнилиона и так со мной в груди живети плачется и бабочкой зовет и я томлюсь между костей и мышцв лесу дыханья стоя красно-беломи старость как кремень владеет теломи длительная искра в кровь летита эхо в лодке гулкого Эсхиладвустворчатой скребется черепахойи нет таблицы чтобы нас вместила.Все восемь сфер зажглись над лесом. Что твоя длиназвезде? и вес твой – небу? Что ты сам – лучу?Какая соль скрипит и злится на зубах?Не есть ли тело – свет в обратном беге,а вечность – бабочки культяпой глубина?Безрукая ода
безрукий уходит в безрукую ночьнемой стоит в тишине, дева одета в невинностькак яблоко в шар или как в плоскости кубангелы не неряшливы — не продолжены руками или крыльямино вся жизнь их – внутрь, как виноградина устремленак косточке в центре, а та, прорастая, – все к новой и новой, к жизни, к ее истокук грозди и корню… вот так и ангел. Черепаха подсказываеткак быть лицу, не грим, но поиск внутренней косточкиискорке ничто, заряженной тринитротолуолом упругой как галоп жизнинастоящий скакун обходится без нога всадник без узды и без рук без самого себя но как слияниепутешествует внутрь где конь и всадник лишь словов горле бескрылой птицы могущей вылепить жизнь из смертидрево из девы эллипс как пещеру для новорожденногоне вынь рыбу из озера но вложине кричи в лицо друга но прислушайсявдыхай запах свежего предзимнего ветратвои руки со всех сторон протянуты — к тебе, а бег твой тебя несеткак гравитация планету, как зима первый снег, слово – вещьслово твое найдет тебя и вымолвит тебя от жизни до смертимиллион твоих рук держат тебя на весукогда ты отдашь их другим – для постройки дома, длядара подруге, для пера, цветка и лопатывойди всем собой в свой центр, как обратный костер в спичкубезруким уходи в безрукую ночьпоймешь то что ты понял прежде чем скажешьвыпуклое дно лодки прибавит тебе силувзятую у колодца, глуби и ласточки – жителей мощного небасестер мужицкого Христа с лишними руками ступнями разбитыми