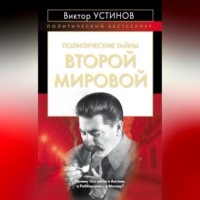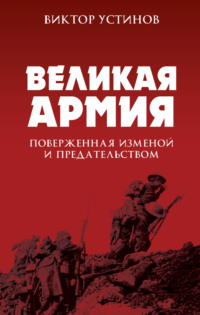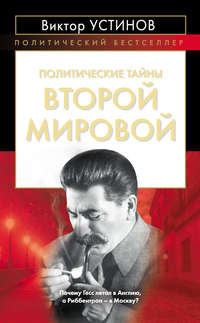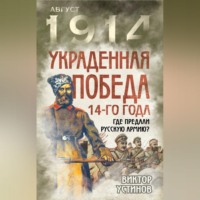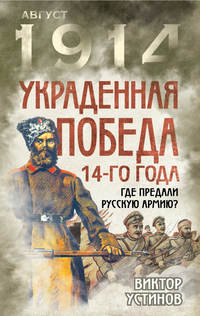Полная версия
Жуков. Портрет великого полководца
Маршалы К. Ворошилов, С. Тимошенко, С. Буденный, Г. Кулик, находясь во главе Красной Армии, все передовое сдерживали или помещали в новую обертку со старым содержанием, и потому в первые месяцы Великой Отечественной войны основные сражения с вермахтом, демонстрировавшим маневренный способ ведения боевых действий, Красной Армией были проиграны, пока во главе фронтов и армий Сталин не поставил молодых генералов, над кем не довлел опыт Гражданской войны. К числу таких военачальников в первую очередь надо отнести Г. Жукова, А. Василевского, К. Рокоссовского, И. Конева, Ф. Толбухина, Л. Говорова, Р. Малиновского и многих других.
Г. Жуков постоянно и углубленно занимался самообразованием, словно предчувствуя, что ему выпадет судьба спасения страны в военное лихолетье. Разобравшись с искусством проведения основных кампаний великих полководцев древности, он шаг за шагом, на картах, занимался разбором всех операций Первой мировой войны, как наиболее близкой, вбирая в свою память все ценное и неожиданное, что применялось противоборствующими сторонами в тех боях и сражениях. Не мог он не заметить, что успех любой военной операции достигался прежде всего скрытностью ее подготовки, внезапностью и быстротой наносимого удара. массированием артиллерии и живой силы на главном направлении. Уже тогда молодой командир полка сделал вывод о все возрастающей роли авиации и танков в будущей войне, и в первой же кампании по разгрому японцев на реке Халхин-Гол он успешно осуществил это свое видение на практике.
Г. Жуков прокомандовал полком шесть лет, и этот период он считал самым ценным в становлении его как будущего военачальника и полководца. Полк действительно, как боевая единица в армии, имеет в своем составе все рода войск и специальные войска, и хотя их масштаб невелик, но он дает возможность командиру полка правильно и эффективно их применять в различных видах боя. Полк, как и римский легион, просуществовавший два тысячелетия, способен вести бой как самостоятельно, так и в составе дивизии, и имеет все функциональные службы для ведения своего хозяйства и содержания семей офицеров и прапорщиков. Полками долго командовали, приобретая бесценный опыт управления людьми, маршалы А. Василевский, К. Рокоссовский, И. Конев. Проходя службу в гор. Минске, молодой командир полка Г. Жуков вел и активную общественную жизнь: его избирали депутатом минского городского совета, где он близко сошелся с ученым-историком В.И. Пичетой, по просьбе которого Г. Жуков выступал с лекциями на военно-историческую тематику на кафедре военно-допризывной подготовки студентов Белорусского государственного университета.
По окончании высших командных курсов Г. Жуков весной 1930 г. возвратился в свою часть и вскоре был назначен командиром кавалерийской бригады той же дивизии, которой с 1929 года командовал К. Рокоссовский. Он прокомандовал ею чуть больше года, когда ему стало известно, что его кандидатура рассматривается на должность инспектора кавалерии РККА. Служба в инспекции в то время высоко ценилась в частях конницы, а Г. Жуков слыл в ее рядах одним из самых лучших кавалеристов, его способности высоко ценил бывший командующий 1‑й конной армии маршал С. Буденный, отвечавший за кавалерию Красной Армии. Новое назначение Г. Жуков воспринял без энтузиазма, но, как человек высокого долга, он свою новую должность помощника инспектора кавалерии РККА использовал для расширения военного кругозора. Перед ним открылись широкие возможности не только по изучению и организации боевой подготовки в общевойсковом масштабе, но и для проверки на практике вновь полученных знаний и приобретенного опыта, чтобы внести и свою лепту в строительство молодой Красной Армии. И он сделал это. Вместе с такими же активными и инициативными офицерами Г. Жуков принял участие в разработке проекта Боевого устава конницы РККА, который был принят, и части конницы получили хорошее пособие для боевой подготовки. Он близко знакомится со многими генералами и офицерами Генерального штаба, среди которых выделялись А. Василевский, Н. Ватутин, Соколовский и др., с кем его еще больше сблизит война. Всесторонне деятельный, он обращает на себя внимание тем, что рамки инспектора кавалерии ему были малы, и по предложению того же маршала С. Буденного в марте 1933 г. Г. Жуков назначается командиром 4‑й кавалерийской дивизии в Белорусский военный округ, слывший в ту пору самым отсталым соединением в Красной Армии. В аттестации, составленной С. Буденным перед его назначением, сказано, что Г. Жуков является «командиром с сильными и волевыми качествами, тактически и оперативно грамотным. Чувство ответственности за порученную работу развито в высокой степени… Может хорошо и поучительно организовать и проводить занятия с командным составом, штабом и войсками».
Г. Жуков уже через год вывел вверенную ему отсталую дивизию в одну из лучших в Красной Армии, за что дивизия и ее командир были награждены орденом Ленина – высшей наградой того времени. В 1937 г. Г. Жуков назначается командиром 3-го кавалерийского корпуса, и в том же году ему присваивается звание комкора. Здесь, а потом и командуя одним из самых сильных 6‑м кавалерийским корпусом, Г. Жуков получает просторное поле деятельности, где можно было проверить на практике не только приобретенные знания и опыт, но и непосредственно участвовать в развернувшихся экспериментах по совершенствованию организационной структуры войск на основе вновь внедряемых новых средств вооруженной борьбы и по отработке проблемных вопросов военного искусства. Проводя командно-штабные учения с корпусом, Г. Жуков отработал совершенно новую организацию конно‑механизированных групп, которая была утверждена наркоматом обороны и нашла успешное применение на фронтах Великой Отечественной войны.
Назначенному в 1938 г. заместителем командующего Белорусского особого военного округа Г. Жукову на случай войны было поручено вступить в командование необычно крупным формированием – конно‑механизированной группой, включающей 4–5 кавалерийских дивизий, 4–5 танковых бригад и несколько частей усиления, то есть той организацией, которую он лично разработал, командуя кавалерийскими соединениями. Г. Жуков всегда работал с размахом, быстрее всех замечая все новое, что зарождалось в своей армии и армиях зарубежных государств, прежде всего Германии, где шла усиленная милитаризация страны и откуда шло предвестие большой войны. В нем жила вера в свое высокое предназначение, и когда на него свалился донос, что он недостаточно активен в партии большевиков и плохо опирается в своей работе на партийную организацию, – ему показалось это странным и надуманным обвинением, на которое он не обратил вначале серьезного внимания. Но донос обрастал новыми слухами, и вскоре такое же обвинение на него обрушил и член Военного совета Белорусского округа генерал Ф.И. Голиков, обвинивший его в грубости и резком обращении с подчиненными командирами и партийными работниками и недооценке их роли в воспитании личного состава. От этих обвинений Г. Жуков также энергично защищался, как и работал.
– Да, резок, но не со всеми, – сказал он. – Резок с теми, кто халатно относится к выполнению порученного ему дела и безответственно относится к своему служебному долгу. Что касается роли и значения политработников, то я ценю лишь тех, кто хорошо выполняет свой партийный долг, работает над собой и помогает командирам в решении учебно-воспитательных задач.
Но когда Ф. Голиков обычные и хорошие деловые отношения командира корпуса с бывшим командующим войсками Белорусского военного округа генералом Уборевичем назвал «опасными связами с врагом народа», то Г. Жуков сразу понял, что эта формулировка несла для него угрозу жизни, тем более что вокруг него уже шли аресты знакомых ему генералов и офицеров.
Не страх за свою жизнь, а твердая вера и убежденность в правоте целей пройденной жизни побудила его дать телеграмму И. Сталину: «Прошу оградить меня от нелепых обвинений в подрыве советской власти, я ее преданный боец». В тот же день телеграмма дошла до адресата, прочитана, и больше Г. Жукова не досаждали угрозами в связях с врагами народа.
Это было время расцвета троцкистского движения в Советской России и сколачивания в ней политического и военного заговора против советской власти и лично против режима Сталина, во главе которого стал маршал М. Тухачевский, сумевший вовлечь в него большое количество генералов и офицеров из высшего эшелона, кто в свое время был выдвинут Троцким на высокие военные посты в Красной Армии. Те генералы и офицеры, кто отказывался примкнуть к заговорщикам, преследовались по идейным соображениям и организационным мероприятиям. Организатором этого преследования был соратник М. Тухачевского генерал Б.М. Фельдман, возглавлявший с 1934 по 1937 год управление по начальствующему составу Красной Армии и при котором самые инициативные и преданные советской власти генералы и офицеры подвергались остракизму, преследованию со стороны участников заговора. Таким преданным советской власти командирам на первой страничке личного дела ставилась пометка «ОУ», обозначавшая необходимость увольнения из рядов Красной Армии, а после их прибытия к месту нового жительства для органов НКВД это обозначало, что их надо, под любым предлогом, репрессировать.
После расстрела М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича, А.И. Корка, И.Э. Якира, Р.П. Эйдемана, В.К. Путны, В.М. Примакова, Б.М. Фельдмана, главарей военного заговора, обвиненных в связях с генералами рейхсвера с целью свержения советской власти и установления военно-деспотических режимов в Советском Союзе и Германии, в высшем командном звене Красной Армии настало успокоение умов и пришла уверенность в том, что репрессии в армии больше не повторятся.
Предвоенный 1939 год был богат политическими и военными событиями, тревожно предвещавшими нарастание угроз в Европе и Азии, где возмутителями спокойствия на западе выступала Германия, а на востоке Япония, пробовавшая распространения своего влияния на Дальнем Востоке за счет приобретения советских земель. События на озере Хасан летом 1938 года и полученный отпор войсками Красной Армии ничему не научили японское командование Квантунской армии, и летом 1939 года, после завоевания Китая и Кореи, она устремилась на земли Внешней Монголии, а весной вторглась на территорию дружественной нам Монголии в районе Халхин-Гол. Сталин опасался, что Япония может захватить Внешнюю Монголию и тогда Центральная Сибирь и ее становой хребет – Транссибирская магистраль – могли оказаться в пределах досягаемости внезапной атаки японских войск.
Пограничный конфликт с японской армией болезненно воспринимался советским руководством и армией, хорошо помнивших позорные уроки войны России с Японией в 1904–1905 годах. Назревавший конфликт был своего рода вызовом новой власти, которая должна была продемонстрировать свою способность к отражению внешних угроз.
Военное руководство в Забайкалье обо всех столкновениях с частями японской армии на советско‑монгольской границе отмалчивалось, а по линии погранвойск Сталин неоднократно получал донесения о все увеличивающемся военном давлении японской армии на наши дальневосточные границы. При очередной встрече с наркомом обороны он посоветовал ему назначить командиром корпуса решительного командира.
– Надо отучить японцев вторгаться на нашу территорию. Поставьте во главе наших войск такого человека, который сумеет там жесткой рукой навести порядок и посеять страх у врага, – сказал Сталин маршалу Ворошилову.
Предварительно Сталин обсуждал эту проблему с генералом С. Тимошенко, который предложил ему назначить на эту должность генерала Г. Жукова, исполнявшего в ту пору обязанности заместителя командующего Белорусского военного округа. Сталин, обладавший великолепной памятью, тут же вспомнил телеграмму, датированную в его адрес Г. Жуковым, в которой он в решительной форме просил вождя оградить его от преследования и наветов в антисоветской деятельности, так как он является наипреданнейшим человеком советской власти. Тогда же Сталин распорядился более внимательно изучить характер наветов на Г. Жукова, и люди Ежова не нашли на него компромата. Та телеграмма запомнилась Сталину смелостью и твердостью жизненных позиций генерала, близких ему по духу, и он согласился на назначение Г. Жукова командиром корпуса, получившего особые полномочия от наркома обороны маршала Ворошилова.
В конце мая, будучи заместителем командующего войсками Белорусского военного округа, Г. Жуков проводил в районе Минска полевую командно-штабную игру, в ходе которой он получил приказание немедленно прибыть в Москву, в наркомат обороны. По прибытии он был принят маршалом К. Ворошиловым, который без долгих рассуждений рассказал о цели его вызова в Москву.
– Японские войска внезапно вторглись в пределы дружественной нам Монголии, которую Советское правительство договором от 12 марта 1936 года обязалось защищать от всякой военной агрессии. – Затем он подвел Г. Жукова к карте: – Вот здесь, – указал нарком, – длительное время проводились мелкие провокационные налеты на монгольских пограничников, а вот здесь японские войска в составе группы войск Хайдарского гарнизона вторглись на территорию МНР и напали на монгольские пограничные части, прикрывающие участок местности восточнее реки Халхин-Гол.
– Думаю, – продолжал нарком, – что затеяна серьезная военная авантюра. Во всяком случае на этом дело не окончится. Можете ли вы вылететь туда немедленно и, если потребуется, принять на себя командование войсками?
– Готов вылететь сию же минуту, – ответил генерал1.
7 июня 1939 г. комкор Г. Жуков был назначен командиром 57-го особого корпуса. Прежний командир корпуса комбриг Н.В. Фекленко бездействовал, когда японские солдаты нарушали границу, и это подтолкнуло японское командование поставить перед собой более серьезные цели – попробовать захватить часть советской территории, плохо охраняемой, а возможно и никому не принадлежащей, и приращением новых земель снискать благодарность и поддержку своего правительства. Общественное мнение во всем мире было на стороне Японии, все мировые правительства ожидали сообщений о поражении Советов в предстоящей войне с ней.
По прибытии в далекую забайкальскую степь Жуков был удивлен, что командный пункт командира корпуса Н.В. Фекленко располагался на удалении более 120 км от границы, и тут же распорядился переместить его в расположение войск. Первые два дня Жуков посещал войска и одновременно вырабатывал план боевых действий, о котором он доложил в Москву: ведением активной обороны удерживать плацдарм советско‑монгольских войск на правом берегу Халхин-Гола и одновременно готовить контрудар, чтобы отбросить японцев к границе. Чтобы контрудар был успешным, Жуков просил усилить его корпус авиацией, тремя стрелковыми дивизиями, танковой бригадой и артиллерией. Ворошилов согласился с этими предложениями, и Жуков все необходимые усиления получил. По согласованию с советским правительством в состав корпуса влились соединения и части Монгольской народной революционной армии, прибывали и части усиления, выделяемые Москвой.
Японские войска, наблюдая за бездействием с советской стороны, 2 июля форсировали реку Халхин-Гол и овладели плацдармом на западном берегу реки, захватив гору Баин-Цаган, господствующую высоту на этой местности. В дальнейшем они планировали, опираясь на эту высоту, накопить на плацдарме достаточные силы и ударом в тыл оборонявшихся на западном берегу реки Халхин-Гол советских войск окружить их, а затем уничтожить. Побывав в войсках корпуса, Жуков мгновенно оценил всю опасность, нависшую над его войсками, и на первом этапе решил прибегнуть к активной обороне (пока подойдет затребованное им усиление); одновременно стал разрабатывать план нанесения сильного контрудара. Войскам, занявших оборону, он приказал рыть траншеи и ходы сообщения, а не ячейки, и на удивленные глаза отдельных командиров отвечал: «А как вы вынесете из ячейки раненого бойца, как доставите в роту завтраки и обеды? А боеприпасы? Поверху, под огнем?» А в узком кругу он говорил командирам: «Занесло нас с этим отрицанием старого опыта траншейной войны».
Это был тот Жуков, которого впоследствии хорошо узнавали по почерку советские солдаты и враги, – умевший поймать мгновения выигрыша во времени и в накоплении сил, в упреждении атаки, дерзавший на грани риска и твердо предвидевший, что начертанные им пути непременно приведут к победе. При выполнении своих решений у него никогда не было и тени сомнений в их правильности, и это чувствовали его соратники и подчиненные, все генералы и солдаты, которых он направлял в бой.
Командиру 11‑й танковой бригады комбригу М.П. Яковлеву, имевшему на вооружении 152 легких танка, Г. Жуков прямо на марше поставил задачу лично и потребовал от него на пределе возможностей моторов атаковать противника с ходу, не обращая внимания на фланги. «Ваша задача – сбросить японцев в реку, не обращая внимания на то, что творится у вас на флангах. За фланги отвечаю я», – сказал он комбригу. С юга японцев атаковала 7‑я мотобронебригада комбрига А.П. Лесовского, располагавшая 154 бронемашинами. Вместе с танковой бригадой японцев атаковали 6‑й бронедивизион 6‑й монгольской кавалерийской дивизии и бронедивизион 8‑й монгольский дивизии (37 бронеавтомобилей БА-6 и БА-10). Уже при выдвижении в атаку танкистов поддержали подошедшие батальоны 24-го мотострелкового полка и 7‑й мотоброневой бригады.
При постановке этой задачи присутствовавший на командном пункте корпуса командарм Г.М. Штерн назвал ее очень рискованной и напомнил Жукову, что есть боевой устав РККА, запрещавший применять танки для прорыва укрепленных позиций без поддержки пехоты, и посоветовал командиру корпуса отданный приказ пересмотреть. Жуков решительно отказался слушать советы старшего начальника и с еще большей энергией и настойчивостью следил за развитием боя. Танки в этом бою, особенно в первые его часы, горели как свечи, и при таком количестве подбитых японцами танков (82 из 152) другому военачальнику можно было и дрогнуть и усомниться в их применении при прорыве японской обороны, но не таков был Жуков. Он знал конечную цель боя и предвидел жертвы, и, как мог, старался их преуменьшить. Во второй половине дня Г. Жуков бросил в новую атаку еще 200 танков 7‑й и 36‑й механизированных бригад – последней командовал комбриг И. Федюнинский, который впоследствии станет один из ближайших сподвижников полководца, – и снова потерял половину танков, но японский план был сорван. К исходу 3 июля японцы были потеснены на плацдарме, наши танки и авиация господствовали на поле боя. В течение двух последующих дней, 4 и 5 июля, советские и монгольские войска, непрерывно атакуя японские позиции, заставили японские войска начать повсеместное отступление и покинуть господствующую высоту Баин-Цаган, потеряв в этих боях до 10 тыс. японских солдат. Это была победа, в результате которой японцы больше не пытались переправляться на западный берег Халхин-Гола, и все дальнейшие события происходили на ее восточном берегу.
Победу всегда хотят присвоить себе люди, не причастные к ней, или отобрать лавры, чтобы приуменьшить ее значение для настоящего победителя. Вот и на этот раз, не без поддержки Штерна, в Москву ушел донос, что Жуков «преднамеренно бросил в бой танковую бригаду без поддержки пехотой, и что танковая бригада была применена неправильно и потому потеряла 50 % своих танков». Комиссия во главе с заместителем наркома обороны по вооружению маршалом Г. Куликом не заставила себя долго ждать, она слепо следовала тому же принципу, что и Штерн, – танки применялись неправильно и не так, как того требовал боевой Устав РККА. Жуков и на этот раз отказался давать членам комиссии какие-либо объяснения по поводу прошедшего сражения и снова дал телеграмму Сталину, чтобы его оградили от таких комиссий. Когда по поручению Сталина в корпус прилетел Л.З. Мехлис, Жуков не стал ему объяснять все перипетии проведшего боя, а провел его по местам прошедших боев и показал масштабы потерь японской армии. Здесь еще дымились остовы более полутысячи японских танков, бронеавтомобилей и орудий, и взятые в качестве трофея несколько сот автомобилей, и большое количество другого военного имущества, как вознаграждение за одержанную победу, что вызвало полную поддержку сталинского посланника действий комкора.
Но очернители победы Жукова продолжали плести интриги и прорабатывать новые пути его отстранения от самостоятельного управления отдельным корпусом, и по предложению командарма Штерна наркомат обороны СССР 5 июля создал в Забайкалье фронтовую группу войск во главе с ним и со штабом в Чите, что давало ему возможность напрямую управлять 57‑м Особым корпусом. Но по предложению Л. Мехлиса, согласованному с Г. Жуковым, 9 июля наркомат обороны 57‑й Особый корпус преобразовал в 1-ю армейскую группу под его командованием, а Военный совет армии был наделен самостоятельными функциями управления.
Между тем на советско‑монгольской границе напряжение не спадало, а продолжало накаляться. Японское командование наращивало силы, и пока они это делали, Г. Жуков, воспользовавшись затишьем, стал готовить войска к новому наступлению. Для этого главные силы он с передовых позиций незаметно отводил на 30 км в тыл, чтобы обучить командиров и бойцов основам взаимодействия на поле боя между пехотой, артиллерией и авиацией. Их уровень подготовки к бою заметно возрастал. Одновременно велась интенсивная работа по введению в заблуждение японского командования относительно истинных целей советских войск. По ночам громкоговорители транслировали шумы строительных работ, создавая у японцев впечатление, будто русские интенсивно строят оборонительные сооружения. Демонстративно, в дневное время, подвозились в большом количестве доски для укрепления траншей, а в войсках раздавались брошюры о правилах действий бойца в обороне. Радиообмен, намеренно проводившийся с помощью слабых кодов, подтверждал те же намерения русских. Танковые части были сосредоточены вдали от переднего края, и комкор планировал приблизить их к передовой линии в ночь перед наступлением. На протяжении трех недель Г. Жуков приказал гонять взад-вперед несколько десятков танков, не заглушая моторов даже по ночам, чтобы японцы привыкли к этим шумам. Все эти мероприятия, проводимые под личным наблюдением комкора, дали свои плоды – японское командование считало боеспособность русских войск слабой и не спеша готовилось нанести по ним удар. К середине августа их армия была доведена до 75 тысяч человек, на вооружении имелось 182 танка, более 500 орудий и 500 самолетов. 1‑я армейская группа под командованием Г. Жукова имела в своем составе около 57 тысяч человек, 542 орудия и минометов, 498 танков и 515 боевых самолетов.

Август 1939 г. КП – гора Хамар-Даба, Халхин-Гол
У Жукова всегда хорошо работала разведка, ведь вся его служба в царской армии в годы Первой мировой войны проходила в этих подразделениях, и он знал ее цену лучше других полководцев. В узком кругу он говорил, что без данных разведки он похож на слепого человека, нуждающегося в сопровождении. В органы разведки он всегда направлял самых способных офицеров и солдат, и сейчас он, не уставая, отправлял в тыл врага новых разведчиков, среди них были монгольские пастухи и жители степей. Из сообщений разведки Г. Жукову стало известно, что командование 6‑й японской армии готовит большую наступательную операцию против советских войск, и они настолько были уверены в предстоящем успехе, что пригласили даже корреспондентов западных газет и военных атташе Германии и Италии, чтобы скорее оповестить мир о победе японского оружия.
С утра 20 августа Г. Жуков решил нанести упреждающий удар, и он был такой силы, что поверг японцев на несколько часов в шоковое состояние. Начался он с авиационного удара по переднему краю японцев, в котором участвовало сразу 153 бомбардировщика и около 100 истребителей прикрытия, поддержанных мощным артиллерийским огнем. Стрелковые соединения быстро преодолели передний край и к исходу первого дня продвинулись на 12 км, убеждая японское командование, что именно здесь в центре наносится главный удар, в то время как танковые соединения с юга и севера готовились нанести удар по флангам. На второй день наступления вмешался командующий Забайкальским фронтом генерал Г.М. Штерн, предложивший Г. Жукову остановиться, нарастить за 2–3 дня силы для последующих ударов и только после этого продолжить окружение японцев. Возмущенный Г. Жуков, не терпевший вмешательства в оперативные дела, спросил Штерна: «Вы приказываете мне или советуете? Если приказываете – напишите письменный приказ»2. Штерн отказался давать такой приказ, и Г. Жуков, предвидя полное окружение японцев, бросил в сражение все имеющиеся у него резервы. 23 августа основные силы японской армии были окружены в пределах монгольской территории, а к 27 августа они были расчленены на две части и уничтожены. Потери 6‑й японской армии составили 61 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Советские войска потеряли 18,5 тыс. убитыми и ранеными. Советско‑монгольские войска захватили трофеи: 200 орудий, 400 пулеметов, 12 тыс. винтовок и большое количество другой техники. На другой день, 28 августа, Г. Жуков получил сообщение о присвоении ему звания Героя Советского Союза.